
БРИК
ЛИЛЯ
ЖИЗНЬ
ЛЮБОВЬ
СМЕРТЬ
"Не смоют любовь ни ссоры, ни версты.
Продумана, выверена, проверена.
Подъемля торжественно стих строкоперстый,
Клянусь — люблю неизменно и верно!"
Продумана, выверена, проверена.
Подъемля торжественно стих строкоперстый,
Клянусь — люблю неизменно и верно!"
В. Маяковский
ЛИЛЯ
Лили, а именно так назвали её родители, родилась в Москве, в приличной еврейской семье. Папа её был адвокатом, а мама – просто мамой. Звали их Урий Александрович и Елена Юльевна Каган. Лили родилась в 1891, 11 ноября. А через пять лет родилась сестра Эльза. Девочек папа назвал в честь героинь Гёте.
Детство их легко представить. Обычное обеспеченное детство. Занятия музыкой, французским и немецким языками, походы в театры, музеи...
В отличие от послушной, старательной Эльзы, «рыжая бестия» Лили всё начинала и бросала. После того как перепробовав пианино, гитару и мандолину, она отказалась продолжать, отец спросил: «…что тебе ещё купить?», она ответила: «барабан». Папа махнул рукой и решил пустить дело на самотек. Впрочем, музыку Лили не бросит, и это будет иметь свои последствия.
Было в Лили что-то, что тянуло к ней мужчин, как пчел на мёд. Это «что-то» проявилось рано, лет с 13. А к 15 годам у неё уже был солидный список поклонников, которые предлагали ей руку, сердце, деньги. Кто-то писал стихи, что готов умереть без её любви, кто-то предлагал умереть вместе.
Однажды в неё влюбился собственный дядя. Он буквально сошел с ума и требовал, чтобы Лили тут же, немедленно, дала согласие выйти за него замуж. Готов был тотчас развестись.
Когда ей было 17, её соблазнил молодой красавец, учитель музыки.
«Мне не хотелось этого, - писала Лиля - но мне было семнадцать лет и я боялась мещанства». Поддавшись безумному порыву, Лили забеременела. Мать отправила её к сестре в Армавир, где ей сделали аборт, да неудачно. В общем, детей у Лили быть больше не могло….
Детство их легко представить. Обычное обеспеченное детство. Занятия музыкой, французским и немецким языками, походы в театры, музеи...
В отличие от послушной, старательной Эльзы, «рыжая бестия» Лили всё начинала и бросала. После того как перепробовав пианино, гитару и мандолину, она отказалась продолжать, отец спросил: «…что тебе ещё купить?», она ответила: «барабан». Папа махнул рукой и решил пустить дело на самотек. Впрочем, музыку Лили не бросит, и это будет иметь свои последствия.
Было в Лили что-то, что тянуло к ней мужчин, как пчел на мёд. Это «что-то» проявилось рано, лет с 13. А к 15 годам у неё уже был солидный список поклонников, которые предлагали ей руку, сердце, деньги. Кто-то писал стихи, что готов умереть без её любви, кто-то предлагал умереть вместе.
Однажды в неё влюбился собственный дядя. Он буквально сошел с ума и требовал, чтобы Лили тут же, немедленно, дала согласие выйти за него замуж. Готов был тотчас развестись.
Когда ей было 17, её соблазнил молодой красавец, учитель музыки.
«Мне не хотелось этого, - писала Лиля - но мне было семнадцать лет и я боялась мещанства». Поддавшись безумному порыву, Лили забеременела. Мать отправила её к сестре в Армавир, где ей сделали аборт, да неудачно. В общем, детей у Лили быть больше не могло….
Из воспоминаний сестры - Эльзы Триоле:
"У нее был большой рот с идеальными зубами и блестящая кожа, словно светящаяся изнутри. У нее была изящная грудь, округлые бедра, длинные ноги и очень маленькие кисти и стопы.
Ей нечего было скрывать, она могла бы ходить голой, каждая частичка ее тела была достойна восхищения.
Впрочем, ходить совсем голой она любила, она была лишена стеснения"
Ей нечего было скрывать, она могла бы ходить голой, каждая частичка ее тела была достойна восхищения.
Впрочем, ходить совсем голой она любила, она была лишена стеснения"
ОСИП
Осип Брик - родился в 1888 году в еврейской семье купца первой гильдии Макса Павловича Брика и его жены Полины Юрьевны Сигаловой.
В 1905 году Осип основал студенческий революционный кружок, где Лиля с ним и познакомилась и влюбилась, как оказалось, на всю жизнь. А он в неё не влюбился…
После окончания гимназии Осип закончил юридический факультет, а потом стал работать в фирме у отца, занимавшегося закупкой каких-то удивительных кораллов.
Осип Максимович был человеком не страсти, но логики и интеллекта. Сегодня таких людей называют энциклопедистами. Он обладал феноменальной эрудиций и знал ответы, кажется, на все возможные вопросы.
В 1912 году, через семь лет после знакомства, Осип вдруг понял, что любит Лили и они поженились. Родители Осипа были не в восторге от его выбора, но, после того, как Лили отказалась от бриллиантового ожерелья в качестве свадебного подарка и попросила заменить его Бехштейновским роялем, они невестку зауважали и смирились с выбором сына. Первые два года Лили вспоминала как очень счастливые. В этой жизни была любовь, обеспеченный комфортный быт, ясные и приятные перспективы.
По делам фирмы Осип должен был часто ездить в Туркестан. Он брал с собой Лили. В этих поездках она навсегда полюбила яркие восточные краски и постоянно привозила с собой цветные ткани и ковры, украшавшие их просторную квартиру в центре Москвы.
Потом в их жизни что-то изменилось. Из неё стала уходить интимная составляющая. Так бывает. Но любовь осталась. Они понимали друг друга с полувзгляда и полуслова. Они были очень близки. Они смотрели на жизнь общими глазами. Через три года после того как Осип писал родителям: «Лиля — самая замечательная девушка, которую я когда-либо встречал, Лиля констатировала: «Мы с Осей как-то физически расползлись».
Так получилось, что Лилю, женщину, которую хотели многие, не хотел собственный муж. Но это не мешало им с Лилей оставаться ближайшими друг к другу людьми до самых последних его дней.
В 1905 году Осип основал студенческий революционный кружок, где Лиля с ним и познакомилась и влюбилась, как оказалось, на всю жизнь. А он в неё не влюбился…
После окончания гимназии Осип закончил юридический факультет, а потом стал работать в фирме у отца, занимавшегося закупкой каких-то удивительных кораллов.
Осип Максимович был человеком не страсти, но логики и интеллекта. Сегодня таких людей называют энциклопедистами. Он обладал феноменальной эрудиций и знал ответы, кажется, на все возможные вопросы.
В 1912 году, через семь лет после знакомства, Осип вдруг понял, что любит Лили и они поженились. Родители Осипа были не в восторге от его выбора, но, после того, как Лили отказалась от бриллиантового ожерелья в качестве свадебного подарка и попросила заменить его Бехштейновским роялем, они невестку зауважали и смирились с выбором сына. Первые два года Лили вспоминала как очень счастливые. В этой жизни была любовь, обеспеченный комфортный быт, ясные и приятные перспективы.
По делам фирмы Осип должен был часто ездить в Туркестан. Он брал с собой Лили. В этих поездках она навсегда полюбила яркие восточные краски и постоянно привозила с собой цветные ткани и ковры, украшавшие их просторную квартиру в центре Москвы.
Потом в их жизни что-то изменилось. Из неё стала уходить интимная составляющая. Так бывает. Но любовь осталась. Они понимали друг друга с полувзгляда и полуслова. Они были очень близки. Они смотрели на жизнь общими глазами. Через три года после того как Осип писал родителям: «Лиля — самая замечательная девушка, которую я когда-либо встречал, Лиля констатировала: «Мы с Осей как-то физически расползлись».
Так получилось, что Лилю, женщину, которую хотели многие, не хотел собственный муж. Но это не мешало им с Лилей оставаться ближайшими друг к другу людьми до самых последних его дней.
ВОЛОДЯ
Володя Маяковский родился в 1893 году в Грузии, в селе Багдади, в семье Владимира Константиновича Маяковского и Александры Алексеевны, урожденной Павленко.
Отец служил лесничим. Когда Владимиру было 13 лет, его отец умер от заражения крови, уколовшись иголкой. С тех пор Владимир всегда боялся всевозможных иголок и булавок и постоянно мыл руки, для чего носил в кармане маленькую мыльницу. Он очень, очень боялся болеть.
После смерти отца семья перебралась в Москву и выживала как могла. За революционную деятельность Маяковский несколько раз сидел в тюрьме, где и начал писать стихи.
В восемнадцать лет поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, откуда был исключен вместе с другом Давидом Бурлюком за публичные революционные выступления. Через год впервые выступил перед публикой в артистическом кафе «Бродячая собака».
К моменту встречи с Бриками он был уже довольно известным поэтом. Но настоящая слава ждала его впереди.
Отец служил лесничим. Когда Владимиру было 13 лет, его отец умер от заражения крови, уколовшись иголкой. С тех пор Владимир всегда боялся всевозможных иголок и булавок и постоянно мыл руки, для чего носил в кармане маленькую мыльницу. Он очень, очень боялся болеть.
После смерти отца семья перебралась в Москву и выживала как могла. За революционную деятельность Маяковский несколько раз сидел в тюрьме, где и начал писать стихи.
В восемнадцать лет поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, откуда был исключен вместе с другом Давидом Бурлюком за публичные революционные выступления. Через год впервые выступил перед публикой в артистическом кафе «Бродячая собака».
К моменту встречи с Бриками он был уже довольно известным поэтом. Но настоящая слава ждала его впереди.

НАЧАЛО
Владимир Маяковский влюбился в Лилю сразу же, с первого взгляда, забыв, что на квартиру Бриков пришел с Эльзой. В своей автобиографии «Я сам» В.В. Маяковский под заголовком «Радостнейшая дата» написал: «Июль 1915-го года. Знакомлюсь с Л.Ю. и О.М. Бриками».
Лиля влюбилась в стихи, но не в поэта. Она любила Осипа. Потом, годы спустя, она скажет, что полюбила Володю, потому что его полюбил Осип.
Восхищённый Осип тут же предложил издать поэму. Вложив свои деньги, он выплатил Маяковскому его едва ли не первый солидный гонорар.
Так началась их общая жизнь. Пока не под одной крышей, но уже очень близко.
Маяковский перебрался из Москвы в Питер, чтобы быть поближе, поселился неподалёку. Но отношения развивались непросто.
Лиля влюбилась в стихи, но не в поэта. Она любила Осипа. Потом, годы спустя, она скажет, что полюбила Володю, потому что его полюбил Осип.
Восхищённый Осип тут же предложил издать поэму. Вложив свои деньги, он выплатил Маяковскому его едва ли не первый солидный гонорар.
Так началась их общая жизнь. Пока не под одной крышей, но уже очень близко.
Маяковский перебрался из Москвы в Питер, чтобы быть поближе, поселился неподалёку. Но отношения развивались непросто.
Лилия Юрьевна писала:
"Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года у меня не было спокойной минуты — буквально.
Я сразу поняла, что Володя гениальный поэт, но он мне не нравился. Я не любила звонких людей — внешне звонких. Мне не нравилось, что он такого большого роста, что на него оборачиваются на улице, не нравилось, что он слушает собственный голос, не нравилось даже, что фамилия его — Маяковский — такая звучная и похожа на псевдоним, причем на пошлый псевдоним…"
"Меня пугала его напористость, его громада, неуемная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна".
Я сразу поняла, что Володя гениальный поэт, но он мне не нравился. Я не любила звонких людей — внешне звонких. Мне не нравилось, что он такого большого роста, что на него оборачиваются на улице, не нравилось, что он слушает собственный голос, не нравилось даже, что фамилия его — Маяковский — такая звучная и похожа на псевдоним, причем на пошлый псевдоним…"
"Меня пугала его напористость, его громада, неуемная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна".
Ей было на тот момент 24 года. Маяковскому – на 2 года меньше. На такие чувства не ответить невозможно. И она ответила.
Это была настоящая, всепоглощающая страсть. Но в любых отношениях, всегда кто-то ведущий, а кто-то – ведомый. Ведущей с самого начала была Лиля.
Первым делом она заставила его вставить зубы – Маяковский ходил без зубов, лишь с гнилыми пеньками. Во-вторых, она купила ему приличный костюм и заставила подстричься. Это она создала ему тот облик элегантного солидного мужчины, который мы с вами знаем.
Они встречались каждый день и стали неразлучны, но его чувства доминировали. Лиля же была спокойнее и умела держать его на расстоянии, от которого он сходил с ума. Он скоро стал звать ее Лилей и на «ты», а она долго обращалась к нему на «вы» и звала по имени и отчеству. Она была то нежна с ним, то отчужденно — холодна. Он отвечал на все ее перепады отчаянием и стихами, которые приводили ее в восторг.
Вскоре она стала фактической женой Маяковского. Они гуляли по Петрограду, устраивали свидания в специальных гостиницах, которые так и назывались «Дома свиданий». Там среди красных стен, обитых штофом и зеркал в золотых рамах, она ему отдавалась. Оба сходили с ума. Но он – чуть больше.
Осипу пока ничего не говорили, хотя он, наверное, догадывался. О том, ревновал ли он, ничего не известно. Похоже, что нет.
Это была настоящая, всепоглощающая страсть. Но в любых отношениях, всегда кто-то ведущий, а кто-то – ведомый. Ведущей с самого начала была Лиля.
Первым делом она заставила его вставить зубы – Маяковский ходил без зубов, лишь с гнилыми пеньками. Во-вторых, она купила ему приличный костюм и заставила подстричься. Это она создала ему тот облик элегантного солидного мужчины, который мы с вами знаем.
Они встречались каждый день и стали неразлучны, но его чувства доминировали. Лиля же была спокойнее и умела держать его на расстоянии, от которого он сходил с ума. Он скоро стал звать ее Лилей и на «ты», а она долго обращалась к нему на «вы» и звала по имени и отчеству. Она была то нежна с ним, то отчужденно — холодна. Он отвечал на все ее перепады отчаянием и стихами, которые приводили ее в восторг.
Вскоре она стала фактической женой Маяковского. Они гуляли по Петрограду, устраивали свидания в специальных гостиницах, которые так и назывались «Дома свиданий». Там среди красных стен, обитых штофом и зеркал в золотых рамах, она ему отдавалась. Оба сходили с ума. Но он – чуть больше.
Осипу пока ничего не говорили, хотя он, наверное, догадывался. О том, ревновал ли он, ничего не известно. Похоже, что нет.
Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
можешь быть, изругав.
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
можешь быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых...
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых...
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом уморят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом уморят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
СТИХИ
С этого времени почти все стихи Маяковского были посвящены Лиле.
Уезжая ненадолго в Москву, он писал ей: «Скучаю. Болею. Злюсь. Каждый день встаю с тоской: «Что Лиля?»
В 1916 году была написана пронзительная поэма «Флейта-позвоночник». Подзаглавие – «Стихи ей».
В поэме «Человек», последней, написанной до революции, есть такие строки:
«И только боль моя острей – Стою, огнем обвит. На несгорающем костре немыслимой любви». И посвящение: «автору стихов моих Лилиньке. Володя»
Потом было «Лиличка! Вместо письма», которое многие считают лучшим стихотворением поэта.
Лиля же успевала всё - и отвечать на безумную страсть, и устраивать у себя «салон», где благодаря Маяковскому, стали собираться интереснейшие молодые литераторы: Борис Пастернак, Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, Николай Асеев, Василий Каменский, Виктор Шкловский, филологи Роман Якобсон, Борис Эйхенбаум и многие другие. Её огня и обаяния хватало на всех. Все, приходившие в этот гостеприимный дом, были с разной степенью интенсивности влюблены в неё. Многие останутся её друзьями навсегда.
Маяковскому очень нравилась такая конкуренция. Он говорил, что обожает, когда другие ревнуют. Но и сам ревновал безумно. Ревновал ко всем, кроме Брика. К нему он «отревновал» во «Флейте» и больше к этой теме не возвращался. Очевидно это означает, что отношения Лили с мужем были сугубо платоническими и Маяковский об этом хорошо знал.
Страсть лилась расплавленной магмой, грозя обжечь всякого, кто приблизится. Он своей любви не скрывал, он о ней кричал, и хотел, чтобы этот крик слышали все. Жизнь их была в ту пору - любовь, страсть, ревность, ссоры и буйные примирения - «на разрыв аорты». Без страсти стихи не рождаются. Особенно гениальные.
Однажды, после очередного выяснения отношений, он даже пытался застрелиться. Правда, перед этим позвонил любимой:
«..Я стреляюсь, прощай, Лилик». - «Подожди меня!»- крикнула она в трубку и помчалась к поэту. На его столе лежал пистолет. Он признался: - «Стрелялся, осечка. Второй раз не решился, ждал тебя».
Уезжая ненадолго в Москву, он писал ей: «Скучаю. Болею. Злюсь. Каждый день встаю с тоской: «Что Лиля?»
В 1916 году была написана пронзительная поэма «Флейта-позвоночник». Подзаглавие – «Стихи ей».
В поэме «Человек», последней, написанной до революции, есть такие строки:
«И только боль моя острей – Стою, огнем обвит. На несгорающем костре немыслимой любви». И посвящение: «автору стихов моих Лилиньке. Володя»
Потом было «Лиличка! Вместо письма», которое многие считают лучшим стихотворением поэта.
Лиля же успевала всё - и отвечать на безумную страсть, и устраивать у себя «салон», где благодаря Маяковскому, стали собираться интереснейшие молодые литераторы: Борис Пастернак, Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, Николай Асеев, Василий Каменский, Виктор Шкловский, филологи Роман Якобсон, Борис Эйхенбаум и многие другие. Её огня и обаяния хватало на всех. Все, приходившие в этот гостеприимный дом, были с разной степенью интенсивности влюблены в неё. Многие останутся её друзьями навсегда.
Маяковскому очень нравилась такая конкуренция. Он говорил, что обожает, когда другие ревнуют. Но и сам ревновал безумно. Ревновал ко всем, кроме Брика. К нему он «отревновал» во «Флейте» и больше к этой теме не возвращался. Очевидно это означает, что отношения Лили с мужем были сугубо платоническими и Маяковский об этом хорошо знал.
Страсть лилась расплавленной магмой, грозя обжечь всякого, кто приблизится. Он своей любви не скрывал, он о ней кричал, и хотел, чтобы этот крик слышали все. Жизнь их была в ту пору - любовь, страсть, ревность, ссоры и буйные примирения - «на разрыв аорты». Без страсти стихи не рождаются. Особенно гениальные.
Однажды, после очередного выяснения отношений, он даже пытался застрелиться. Правда, перед этим позвонил любимой:
«..Я стреляюсь, прощай, Лилик». - «Подожди меня!»- крикнула она в трубку и помчалась к поэту. На его столе лежал пистолет. Он признался: - «Стрелялся, осечка. Второй раз не решился, ждал тебя».
РЕВОЛЮЦИЯ
Так и жили – в страстях, а в стране происходили перемены глобального масштаба. Это был государственный переворот, революция, которую Маяковский и Брики приняли сразу, без колебаний, несмотря на то, что до революции Брики принадлежали к весьма обеспеченному классу. И тем не менее, они без сожалений включились в новую жизнь и, кажется, никогда не вспоминали о старой.
В октябре 1917 года мир перевернулся. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». «Религия - опиум для народа». Все старые нормы отвергаются.
Родившиеся в Серебряном веке символизм, а затем футуризм переплавляются в новое течение в искусстве - авангард. Все новое, небывалое! В поэзии бывшие футуристы, а теперь авангардисты, призывают «сбросить Пушкина с корабля современности».
Венчание или даже обычная регистрация брака - пережиток прошлого. Любовь должна быть свободной. Ревность - признак собственника. Человек будущего не может ревновать. Все свободны в выборе партнера. Традиционная семья должна была уступить место коммуне.
В Москве строились дома-коммуны, где персональной жизни отводились лишь скромные комнаты для сна, остальная часть жизни должна была проходить в общественных помещениях. Быт не должен был отвлекать нового человека от строительства нового мира.
Годы были тяжелейшие. Был голод, холод и разруха. Кто-то, не выдержав ужаса первых послереволюционных лет, уехал в эмиграцию, а кто-то с восторгом кинулся в бурные волны новой жизни. И для многих это были счастливейшие годы. Потому что были молоды и талантливы, потому что талант был востребован.
В октябре 1917 года мир перевернулся. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». «Религия - опиум для народа». Все старые нормы отвергаются.
Родившиеся в Серебряном веке символизм, а затем футуризм переплавляются в новое течение в искусстве - авангард. Все новое, небывалое! В поэзии бывшие футуристы, а теперь авангардисты, призывают «сбросить Пушкина с корабля современности».
Венчание или даже обычная регистрация брака - пережиток прошлого. Любовь должна быть свободной. Ревность - признак собственника. Человек будущего не может ревновать. Все свободны в выборе партнера. Традиционная семья должна была уступить место коммуне.
В Москве строились дома-коммуны, где персональной жизни отводились лишь скромные комнаты для сна, остальная часть жизни должна была проходить в общественных помещениях. Быт не должен был отвлекать нового человека от строительства нового мира.
Годы были тяжелейшие. Был голод, холод и разруха. Кто-то, не выдержав ужаса первых послереволюционных лет, уехал в эмиграцию, а кто-то с восторгом кинулся в бурные волны новой жизни. И для многих это были счастливейшие годы. Потому что были молоды и талантливы, потому что талант был востребован.
МОСКВА
Весной 1918 года Брики и Маяковский вернулись в Москву. О снятой ими неотапливаемой квартире в Полуэктовом переулке поэт позже рассказал в поэме «Хорошо!»: «Двенадцать квадратных аршин жилья. / Четверо в помещении — Лиля, Ося, я и собака Щеник». Сеттера, получившего кличку Владимир Владимирович Щен, Маяковский нашёл в Подмосковье. По уверению Лили Юрьевны, пёс и поэт были похожи: «Оба большелапые, большеголовые».
Кличка Щен стала домашним именем Маяковского. Так его звала Лиля, так он подписывал свои письма к ней. А он её звал Киса, Лилик, Лучик и еще множеством ласковых имён. Киса и Щен. Осипа они звали Кот. Такая образовалась семья – Киса, Кот и Щен. В этом отражается характер их отношений. Киса – сама по себе, Кот – хозяин Кисы. И усыновленный ими Щен.
Кличка Щен стала домашним именем Маяковского. Так его звала Лиля, так он подписывал свои письма к ней. А он её звал Киса, Лилик, Лучик и еще множеством ласковых имён. Киса и Щен. Осипа они звали Кот. Такая образовалась семья – Киса, Кот и Щен. В этом отражается характер их отношений. Киса – сама по себе, Кот – хозяин Кисы. И усыновленный ими Щен.
В. Маяковский
"Пришла – деловито, за рыком, за ростом, взглянув, разглядела просто мальчика. Взяла, отобрала сердце и просто пошла играть – как девочка мячиком"
Сам себя называет он мальчиком. Он и был мальчиком, и оставался им до конца жизни. Большой мальчик Маяковский. Революционер и забияка, он был раним и часто не уверен в себе. Его семья, состоявшая из матери и сестер, была, что называется, из другого круга. Им были не понятны и не близки жизнь и интересы их сына и брата. Встретив Бриков, Маяковский наконец обрёл по-настоящему близких людей, которые стали его семьёй. Своей семьёй он назовет Лилю Брик в своей предсмертной записке.
В 1918 году, во время съёмок фильма «Закованная фильмой», сценарий которого был написан Маяковским специально для Лили, они обменялись кольцами. На её кольце были выгравированы три буквы ЛЮБ. Если читать по кругу, получалось бесконечное ЛЮБЛЮ. Эти кольца они поклялись никогда не снимать. Когда Маяковского не стало, следователи передали Лиле его кольцо и до конца жизни она носила его вместе со своим на цепочке вместо медальона.
Маяковский много печатался, получал высокие гонорары. Иногда он зарабатывал тысячу рублей в месяц. А зарплата рабочего, для сравнения, была семьдесят. Залы, где он выступал со своими стихами, были переполнены. Работал в Российском телеграфном агентстве (РОСТА). Рисовал плакаты и делал к ним стихотворные подписи. Лиля всегда была с ним рядом. На его выступлениях сидела в первом ряду, а он перед началом произносил: «Лиле Юрьевне Брик посвящается». Она помогала рисовать и раскрашивать плакаты РОСТА, вместе с Осей и Володей формулировала принципы ЛЕФ (Левый Фронт искусства). Всегда и везде они были вместе.
Маяковский много печатался, получал высокие гонорары. Иногда он зарабатывал тысячу рублей в месяц. А зарплата рабочего, для сравнения, была семьдесят. Залы, где он выступал со своими стихами, были переполнены. Работал в Российском телеграфном агентстве (РОСТА). Рисовал плакаты и делал к ним стихотворные подписи. Лиля всегда была с ним рядом. На его выступлениях сидела в первом ряду, а он перед началом произносил: «Лиле Юрьевне Брик посвящается». Она помогала рисовать и раскрашивать плакаты РОСТА, вместе с Осей и Володей формулировала принципы ЛЕФ (Левый Фронт искусства). Всегда и везде они были вместе.













ЖИЗНЬ ВТРОЁМ
Эту главу будет правильно начать словами Л.Ю. Брик: «Все сплетни о «треугольнике», «любви втроем»
и т. п. совершенно не похожи на то, что было».
После нескольких съёмных квартир, с 1925 года они поселились в четырехкомнатной квартире в Гендриковом переулке. На двери повесили табличку: «Брики. Маяковский». Каждому досталось по спальне, а собирались вместе в общей комнате. Правила устанавливала, разумеется, Лиля. Им подчинялись беспрекословно.
Договорились, что считают себя свободными людьми. Днём каждый из них мог быть где угодно и делать, что хотел. Но ночью все должны собираться вместе. И никому не разрешалось приводить в эту квартиру кого-либо ночевать.
У Маяковского была небольшая комната в Лубянском проезде, где он уединялся для работы – там он был один, а все остальное время - втроем. Незадолго до смерти он вступил в кооператив в Спасопесковском переулке, где они должны были опять жить втроём, но переехать туда не успел. Брики переезжали уже без него...
В квартире у них, как и прежде, в Петрограде, собирались веселые компании талантливых людей. «Салон», начавший жизнь еще до революции, продолжился в Москве и собирал в небольшой квартире цвет московской интеллигенции.
Интеллектуальным центром вечеров был Осип, сердцем и душой – Маяковский и Лиля. Был у неё особый дар распознавать талант буквально с первой встречи. Дар этот в течение жизни будет развиваться и станет самым настоящим камертоном, позволяющим безошибочно угадывать дарование.
Бывали у них и военные, и люди, работавшие в закрытой и грозной ЧК. Наиболее тесная дружба связывала их, и прежде всего Маяковского, с Яковом Аграновым, занимавшим высокие должности в этой организации.
На какие средства жила семья Маяковского-Бриков?
Часто приходится слышать обвинения, что вот, мол, присосались к богатому поэту и тянули из него деньги. Всё не так однозначно. До революции Осип содержал и Лилю, и Володю. И это естественно – ведь он был богат. На свои деньги он издавал книги Маяковского, выплачивал ему гонорары.
После революции Маяковский стал много издаваться и, соответственно, зарабатывать. Теперь его вклад был основным, хотя и не единственным. Осип писал статьи, а позже – сценарии, за что тоже получал гонорары. Лиля какое-то время работала в кино – ассистентом режиссера, а потом и сценаристом, и режиссером – тоже не бесплатно.
Когда они разлучались, письма с просьбой выслать денег шли в обоих направлениях. Чаще в деньгах нуждалась Лиля, но и Маяковский тоже, бывало, попадал в ситуацию безденежья. Он ведь был игрок, и весьма азартный. Мог проиграться в пух. И тогда его, естественно, выручали самые близкие люди – Брики.
Вообще, между ними никогда не было денежных расчётов. Так повелось с самого начала и до самого конца.
и т. п. совершенно не похожи на то, что было».
После нескольких съёмных квартир, с 1925 года они поселились в четырехкомнатной квартире в Гендриковом переулке. На двери повесили табличку: «Брики. Маяковский». Каждому досталось по спальне, а собирались вместе в общей комнате. Правила устанавливала, разумеется, Лиля. Им подчинялись беспрекословно.
Договорились, что считают себя свободными людьми. Днём каждый из них мог быть где угодно и делать, что хотел. Но ночью все должны собираться вместе. И никому не разрешалось приводить в эту квартиру кого-либо ночевать.
У Маяковского была небольшая комната в Лубянском проезде, где он уединялся для работы – там он был один, а все остальное время - втроем. Незадолго до смерти он вступил в кооператив в Спасопесковском переулке, где они должны были опять жить втроём, но переехать туда не успел. Брики переезжали уже без него...
В квартире у них, как и прежде, в Петрограде, собирались веселые компании талантливых людей. «Салон», начавший жизнь еще до революции, продолжился в Москве и собирал в небольшой квартире цвет московской интеллигенции.
Интеллектуальным центром вечеров был Осип, сердцем и душой – Маяковский и Лиля. Был у неё особый дар распознавать талант буквально с первой встречи. Дар этот в течение жизни будет развиваться и станет самым настоящим камертоном, позволяющим безошибочно угадывать дарование.
Бывали у них и военные, и люди, работавшие в закрытой и грозной ЧК. Наиболее тесная дружба связывала их, и прежде всего Маяковского, с Яковом Аграновым, занимавшим высокие должности в этой организации.
На какие средства жила семья Маяковского-Бриков?
Часто приходится слышать обвинения, что вот, мол, присосались к богатому поэту и тянули из него деньги. Всё не так однозначно. До революции Осип содержал и Лилю, и Володю. И это естественно – ведь он был богат. На свои деньги он издавал книги Маяковского, выплачивал ему гонорары.
После революции Маяковский стал много издаваться и, соответственно, зарабатывать. Теперь его вклад был основным, хотя и не единственным. Осип писал статьи, а позже – сценарии, за что тоже получал гонорары. Лиля какое-то время работала в кино – ассистентом режиссера, а потом и сценаристом, и режиссером – тоже не бесплатно.
Когда они разлучались, письма с просьбой выслать денег шли в обоих направлениях. Чаще в деньгах нуждалась Лиля, но и Маяковский тоже, бывало, попадал в ситуацию безденежья. Он ведь был игрок, и весьма азартный. Мог проиграться в пух. И тогда его, естественно, выручали самые близкие люди – Брики.
Вообще, между ними никогда не было денежных расчётов. Так повелось с самого начала и до самого конца.
"ОНА ЕГО МУЧИЛА"
В 1922 году между Лилей и Маяковским произошла серьёзная ссора, связанная с его пристрастием к карточной игре. Лиля предложила ему расстаться на два месяца, чтобы отдохнуть друг от друга. Маяковский легко согласился на это трудное, но в чем-то желанное испытание. Выходя поутру из своей комнаты-«лодочки» в Лубянском проезде, он отправлялся в кафе, где, обливаясь слезами, писал Лиле письма.
В. Маяковский
"Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Всё равно люблю. Аминь… Любовь это жизнь, это главное. От неё разворачиваются и стихи и дела и всё пр… Без тебя я прекращаюсь"
Он ходил под ее окнами и посылал через знакомых подарки. Такая встряска, такой подъём, видимо, были необходимы ему. В этих душевных бурях рождалось вдохновение.
Когда срок, назначенный Лилей, истёк, они встретились на вокзале, чтобы отправиться в Петроград. Едва они сели в поезд, Маяковский прочитал ей новую поэму «Про это». Как всегда, Лиля была первым слушателем и первым критиком.
Из приступа отчаяния - «Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет» – родилась гениальная, некоторые считают, что лучшая, поэма.
Два месяца «добровольной каторги», не прошли даром.
Помимо создания нового шедевра и нескольких выступлений на публике, Маяковский вместе с Бриком основали новое литературное объединение Левый фронт искусств, знаменитый ЛЕФ и начали издавать журнал, в первом номере которого и вышла поэма «Про это». Чуть позже эта поэма выйдет отдельной книгой с портретом Лили на обложке и с посвящением «Ей и мне».
Когда срок, назначенный Лилей, истёк, они встретились на вокзале, чтобы отправиться в Петроград. Едва они сели в поезд, Маяковский прочитал ей новую поэму «Про это». Как всегда, Лиля была первым слушателем и первым критиком.
Из приступа отчаяния - «Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет» – родилась гениальная, некоторые считают, что лучшая, поэма.
Два месяца «добровольной каторги», не прошли даром.
Помимо создания нового шедевра и нескольких выступлений на публике, Маяковский вместе с Бриком основали новое литературное объединение Левый фронт искусств, знаменитый ЛЕФ и начали издавать журнал, в первом номере которого и вышла поэма «Про это». Чуть позже эта поэма выйдет отдельной книгой с портретом Лили на обложке и с посвящением «Ей и мне».
ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
В 1925 году, после возвращения Маяковского из Америки, где у него произошла встреча и краткий, но бурный роман с Элли Джонс, через положенный срок родившей от него дочь, их отношения с Лилей перешли на новый уровень. Из них ушла интимная составляющая. Так решила Лиля. Она писала ему: «Мне кажется, что и ты уже любишь меня много меньше и очень мучиться не будешь».
Если раньше Лиля была для Маяковского всем: любовницей, женой, матерью, другом, то теперь из этого списка уходит роль любовницы. Но всё остальное остаётся. Если судить по их переписке, между ними ничего не изменилось. Всё те же обращения: «Дорогой, милый, родной, любимый», одинаковые в обе стороны. Заверения в безграничной любви: «Целую, люблю, скучаю». И в этом не было ни малейшей фальши. Все, что действительно их связывало друг с другом: взаимопонимание, общие интересы, осознание того, насколько каждый из них нужен другому, — все это осталось, выдержав испытание временем, и не могло исчезнуть даже после того, как ушла физическая любовь.
В жизни Осипа тоже произошли важные изменения. На съемках фильма по его сценарию он познакомился с двадцатипятилетней женой режиссера Виталия Жемчужного — Евгенией Соколовой, между ними завязались отношения. К концу 1925 года Женя на правах «своего человека» вошла в их общую семью. Но жила она всегда отдельно, в собственной комнате на Арбате.
Если раньше Лиля была для Маяковского всем: любовницей, женой, матерью, другом, то теперь из этого списка уходит роль любовницы. Но всё остальное остаётся. Если судить по их переписке, между ними ничего не изменилось. Всё те же обращения: «Дорогой, милый, родной, любимый», одинаковые в обе стороны. Заверения в безграничной любви: «Целую, люблю, скучаю». И в этом не было ни малейшей фальши. Все, что действительно их связывало друг с другом: взаимопонимание, общие интересы, осознание того, насколько каждый из них нужен другому, — все это осталось, выдержав испытание временем, и не могло исчезнуть даже после того, как ушла физическая любовь.
В жизни Осипа тоже произошли важные изменения. На съемках фильма по его сценарию он познакомился с двадцатипятилетней женой режиссера Виталия Жемчужного — Евгенией Соколовой, между ними завязались отношения. К концу 1925 года Женя на правах «своего человека» вошла в их общую семью. Но жила она всегда отдельно, в собственной комнате на Арбате.
СМЕРТЬ МАЯКОВСКОГО
К концу 20-х годов атмосфера послереволюционной эйфории начала спадать. Жизнь, в том числе, литературная, упорядочивалась. Пора было заканчивать «сбрасывать классиков с корабля современности» и начинать строить «социализм в одной, отдельно взятой стране». Были обозначены жесткие идеологические постулаты. Марксизм-ленинизм оформился как государственная идеология.
Авангард с его полётом на «новую планету» должен был уйти. Государство собирало своих писателей под крыло, требуя от них безусловного согласия в рамках «единственно верной» эстетики, которая стала называться социалистическим реализмом.
Маяковский остро ощущал надвигающиеся перемены. Ему становилось душно, тесно. Если раньше его стихи, что называется, отрывали с руками, теперь ему все чаще приходилось бороться за право быть изданным.
В феврале 1930-го в театре Мейерхольда должна была состояться премьера новой пьесы Маяковского «Баня». Ей предшествовала юбилейная выставка Маяковского «Двадцать лет работы», на которую он возлагал большие надежды. Два человека не покладая рук работали над созданием выставки - Лиля Брик и Наташа Брюханенко. Вместе с Маяковским Лиля составляла список гостей, среди которых были члены правительства и сам товарищ Сталин. Накануне Маяковский выступал в Большом театре. Сталин слушал и аплодировал. Тем основательней казались надежды: почему бы на открытие выставки не прийти и ему, и другим вождям?
Из официальных лиц не пришел никто, а он только их и ждал...
Накануне открытия выставки премьера «Бани» прошла в Ленинграде. Это был тяжелейший провал, сопровождаемый каскадом разгромных рецензий. Много позже спектакль назовут выдающимся, но в тот момент критика возмущалась отсутствием в пьесе «коммунистов и рабочих».
Но этой премьеры Лиля и Осип не дождались. 18 февраля Лиля и Осип уехали. Они собирались в Париж к Эльзе, предварительно заехав в Лондон повидаться с матерью. Поездка была запланирована давно и несколько раз откладывалась из-за выставки и других неотложных дел. Маяковский провожал их на вокзале. Был весел, шутил, просил писать почаще.
На протяжении всего времени Лиля и Маяковский писали друг другу. В письмах было обычное «люблю, целую, скучаю, жду». Последнее большое письмо Маяковский написал 19 марта: «Пишите, родные, и приезжайте скорее». Телеграмма о смерти Маяковского ждала их на обратном пути, в Берлине, в гостинице, откуда они должны были отправляться в Москву.
14 апреля утром у Маяковского было назначено свидание с Норой Полонской. Он заехал за ней утром на такси и, узнав, что через два часа у нее очень важная репетиция с Немировичем-Данченко, расстроился и стал нервничать. Через несколько лет Вероника Витольдовна вспоминала, что, когда она приехала к нему на Лубянку, он запер дверь и, положив ключ в карман, стал быстро ходить по комнате и требовать, чтобы она с той же минуты, без всяких объяснений со своим мужем Михаилом Яншиным, осталась здесь, в этой комнате. С Яншиным он поговорит сам, а ее больше к нему не пустит, что он сейчас все купит, привезет сюда и она не будет ни в чем нуждаться…А иначе – ничего не надо.
Авангард с его полётом на «новую планету» должен был уйти. Государство собирало своих писателей под крыло, требуя от них безусловного согласия в рамках «единственно верной» эстетики, которая стала называться социалистическим реализмом.
Маяковский остро ощущал надвигающиеся перемены. Ему становилось душно, тесно. Если раньше его стихи, что называется, отрывали с руками, теперь ему все чаще приходилось бороться за право быть изданным.
В феврале 1930-го в театре Мейерхольда должна была состояться премьера новой пьесы Маяковского «Баня». Ей предшествовала юбилейная выставка Маяковского «Двадцать лет работы», на которую он возлагал большие надежды. Два человека не покладая рук работали над созданием выставки - Лиля Брик и Наташа Брюханенко. Вместе с Маяковским Лиля составляла список гостей, среди которых были члены правительства и сам товарищ Сталин. Накануне Маяковский выступал в Большом театре. Сталин слушал и аплодировал. Тем основательней казались надежды: почему бы на открытие выставки не прийти и ему, и другим вождям?
Из официальных лиц не пришел никто, а он только их и ждал...
Накануне открытия выставки премьера «Бани» прошла в Ленинграде. Это был тяжелейший провал, сопровождаемый каскадом разгромных рецензий. Много позже спектакль назовут выдающимся, но в тот момент критика возмущалась отсутствием в пьесе «коммунистов и рабочих».
Но этой премьеры Лиля и Осип не дождались. 18 февраля Лиля и Осип уехали. Они собирались в Париж к Эльзе, предварительно заехав в Лондон повидаться с матерью. Поездка была запланирована давно и несколько раз откладывалась из-за выставки и других неотложных дел. Маяковский провожал их на вокзале. Был весел, шутил, просил писать почаще.
На протяжении всего времени Лиля и Маяковский писали друг другу. В письмах было обычное «люблю, целую, скучаю, жду». Последнее большое письмо Маяковский написал 19 марта: «Пишите, родные, и приезжайте скорее». Телеграмма о смерти Маяковского ждала их на обратном пути, в Берлине, в гостинице, откуда они должны были отправляться в Москву.
14 апреля утром у Маяковского было назначено свидание с Норой Полонской. Он заехал за ней утром на такси и, узнав, что через два часа у нее очень важная репетиция с Немировичем-Данченко, расстроился и стал нервничать. Через несколько лет Вероника Витольдовна вспоминала, что, когда она приехала к нему на Лубянку, он запер дверь и, положив ключ в карман, стал быстро ходить по комнате и требовать, чтобы она с той же минуты, без всяких объяснений со своим мужем Михаилом Яншиным, осталась здесь, в этой комнате. С Яншиным он поговорит сам, а ее больше к нему не пустит, что он сейчас все купит, привезет сюда и она не будет ни в чем нуждаться…А иначе – ничего не надо.
Из воспоминаний В.В. Полонской:
"Я говорила, что люблю его, буду с ним, но не могу остаться с ним сейчас же, ничего не сказав Яншину. Я по-человечески достаточно люблю и уважаю мужа и не могу так с ним поступить.
Вот и на репетицию я обязана пойти, потом домой, скажу все Яншину и вечером перееду к нему совсем"
Вот и на репетицию я обязана пойти, потом домой, скажу все Яншину и вечером перееду к нему совсем"
Они поссорились. Она все-таки ушла.
«Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери, — писала Полонская. — Раздался выстрел. У меня подкосились ноги, я закричала и металась по коридору: не могла заставить себя войти. Мне казалось, что прошло очень много времени, пока я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгновенье, в комнате еще стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди было крошечное кровавое пятнышко. Я помню, что бросилась к нему и только повторяла бесконечно: Что вы сделали? Что вы сделали? Глаза у него были открыты, он смотрел прямо на меня и все силился поднять голову. Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже неживые. Потом голова упала, и он стал постепенно бледнеть».
До конца жизни Вероника Витольдовна не могла забыть его открытые глаза, которые все еще смотрели на нее после выстрела, этот его угасающий взгляд…
Оставленное Маяковским письмо, адресованное «Всем», помечено 12 апреля, за два дня до смерти:
«В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.
Лиля — люби меня. Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят - «инцидент исперчен», любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский. 12/IV — 30 г.»
«Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери, — писала Полонская. — Раздался выстрел. У меня подкосились ноги, я закричала и металась по коридору: не могла заставить себя войти. Мне казалось, что прошло очень много времени, пока я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгновенье, в комнате еще стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди было крошечное кровавое пятнышко. Я помню, что бросилась к нему и только повторяла бесконечно: Что вы сделали? Что вы сделали? Глаза у него были открыты, он смотрел прямо на меня и все силился поднять голову. Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже неживые. Потом голова упала, и он стал постепенно бледнеть».
До конца жизни Вероника Витольдовна не могла забыть его открытые глаза, которые все еще смотрели на нее после выстрела, этот его угасающий взгляд…
Оставленное Маяковским письмо, адресованное «Всем», помечено 12 апреля, за два дня до смерти:
«В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.
Лиля — люби меня. Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят - «инцидент исперчен», любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский. 12/IV — 30 г.»

Телеграмма о смерти Маяковского ждала Бриков на обратном пути, в Берлине, в гостинице, откуда они должны были отправляться в Москву.
На границу для встречи выехал их друг В. А. Катанян, он рассказывал, что Лиля очень плакала, а Ося был мрачен и в разговоре сказал, что «Володе следовало уже иметь семью». Их ждали на похороны, и мать поэта не соглашалась хоронить сына без Лили Юрьевны.
Брики смогли вернуться в Москву 17 апреля, похороны состоялись во второй половине того же дня. Похоронная процессия растянулась на несколько километров мимо домов с приспущенными флагами. Подобного траурного многолюдья — в похоронах участвовало около ста тысяч человек — Москва еще не видела. «Если бы Маяковский знал, что его так любят, не застрелился бы...» - сказал один из современников.
Гроб везли на грузовике, за руль которого сел Михаил Кольцов, вскоре он передал его шоферу, а сам пошел пешком, вместе со всеми. Грузовик, на котором везли гроб, был обит железными листами на манер броневика, цветов не было, а был лишь один венок из железа – молотов, маховиков и винтов – с надписью: «Железному поэту – железный венок».
Кремировали тело в крематории Донского монастыря. Тогда такой способ захоронения был новинкой и соответствовал авангардному образу поэта. Там же, в Донском, урна хранилась в колумбарии в течение многих лет. И только в мае 1952-го, через 22 года после смерти, прах Маяковского будет захоронен на Новодевичьем кладбище.
На границу для встречи выехал их друг В. А. Катанян, он рассказывал, что Лиля очень плакала, а Ося был мрачен и в разговоре сказал, что «Володе следовало уже иметь семью». Их ждали на похороны, и мать поэта не соглашалась хоронить сына без Лили Юрьевны.
Брики смогли вернуться в Москву 17 апреля, похороны состоялись во второй половине того же дня. Похоронная процессия растянулась на несколько километров мимо домов с приспущенными флагами. Подобного траурного многолюдья — в похоронах участвовало около ста тысяч человек — Москва еще не видела. «Если бы Маяковский знал, что его так любят, не застрелился бы...» - сказал один из современников.
Гроб везли на грузовике, за руль которого сел Михаил Кольцов, вскоре он передал его шоферу, а сам пошел пешком, вместе со всеми. Грузовик, на котором везли гроб, был обит железными листами на манер броневика, цветов не было, а был лишь один венок из железа – молотов, маховиков и винтов – с надписью: «Железному поэту – железный венок».
Кремировали тело в крематории Донского монастыря. Тогда такой способ захоронения был новинкой и соответствовал авангардному образу поэта. Там же, в Донском, урна хранилась в колумбарии в течение многих лет. И только в мае 1952-го, через 22 года после смерти, прах Маяковского будет захоронен на Новодевичьем кладбище.
ПОЧЕМУ?
В течение 60 лет, прошедших со дня смерти поэта, его стихи учили школьники, кому-то они нравились, кому-то нет. И никакого ажиотажа вокруг имени Маяковского не наблюдалось, а о Лиле Брик вообще мало кто знал.
И вдруг, начиная с 90-х годов, желтая пресса плотно прилипла к Маяковскому и всем, кто его окружал. Уж больно необычные и яркие люди и обстоятельства.
На свет появлялись самые разные и порой дикие версии событий. Много бреда прозвучало на эту тему. Даже экспертизу почерка делали. После которой подтвердилось, что записка написана рукой Маяковского.
А истина на самом деле и проста, и сложна одновременно. Депрессия, связанная с творчеством, разгромные рецензии на оба спектакля «Баня» - в Москве и Ленинграде, бесконечная, все более ожесточающаяся борьба на «литературном фронте», чрезвычайно напряженные личные отношения с Полонской и, в довершение всего, тяжелейший грипп, который свалил его в ту пору. С самого детства, с того времени, когда умер от заражения крови его отец, Маяковский не умел и боялся болеть. Любое недомогание воспринималось им как трагедия. В эти моменты он был не боец.
Вот что говорила об этом Лиля в разговоре, состоявшемся много позже: «Володя боялся всего: простуды, инфекции, даже — скажу вам по секрету — «сглаза». В этом он никому не хотел признаваться, стыдился. Но больше всего он боялся старости. Он не раз говорил мне: «Хочу умереть молодым, чтобы ты не видела меня состарившимся». ...Я думаю, эта непереносимая, почти маниакальная боязнь старения сжигала его и сыграла роковую роль перед самым концом. Мне кажется, в ту последнюю ночь перед выстрелом достаточно мне было положить ладонь на его лоб, и она сыграла бы роль громоотвода. Он успокоился бы, и кризис бы миновал. Может быть, не очень надолго, до следующей вспышки, но миновал бы. Если бы я могла быть тогда рядом с ним!»
И вдруг, начиная с 90-х годов, желтая пресса плотно прилипла к Маяковскому и всем, кто его окружал. Уж больно необычные и яркие люди и обстоятельства.
На свет появлялись самые разные и порой дикие версии событий. Много бреда прозвучало на эту тему. Даже экспертизу почерка делали. После которой подтвердилось, что записка написана рукой Маяковского.
А истина на самом деле и проста, и сложна одновременно. Депрессия, связанная с творчеством, разгромные рецензии на оба спектакля «Баня» - в Москве и Ленинграде, бесконечная, все более ожесточающаяся борьба на «литературном фронте», чрезвычайно напряженные личные отношения с Полонской и, в довершение всего, тяжелейший грипп, который свалил его в ту пору. С самого детства, с того времени, когда умер от заражения крови его отец, Маяковский не умел и боялся болеть. Любое недомогание воспринималось им как трагедия. В эти моменты он был не боец.
Вот что говорила об этом Лиля в разговоре, состоявшемся много позже: «Володя боялся всего: простуды, инфекции, даже — скажу вам по секрету — «сглаза». В этом он никому не хотел признаваться, стыдился. Но больше всего он боялся старости. Он не раз говорил мне: «Хочу умереть молодым, чтобы ты не видела меня состарившимся». ...Я думаю, эта непереносимая, почти маниакальная боязнь старения сжигала его и сыграла роковую роль перед самым концом. Мне кажется, в ту последнюю ночь перед выстрелом достаточно мне было положить ладонь на его лоб, и она сыграла бы роль громоотвода. Он успокоился бы, и кризис бы миновал. Может быть, не очень надолго, до следующей вспышки, но миновал бы. Если бы я могла быть тогда рядом с ним!»
Из письма Лили Брик сестре:
"…Я знаю совершенно точно, как это случилось, но для того, чтобы понять это, надо было знать Володю так, как знала его я. Если б я или Ося были в Москве, Володя был бы жив… Стихи из предсмертного письма были написаны давно мне и совсем не собирались оказаться предсмертными… Стрелялся Володя, как игрок, из совершенно нового, ни разу не стрелянного револьвера; обойму вынул, оставил одну только пулю в дуле, а это на пятьдесят процентов — осечка. Такая осечка уже была тринадцать лет назад, в Питере. Он во второй раз испытывал судьбу. Застрелился он при Норе, но ее можно винить, как апельсинную корку, о которую поскользнулся, упал и разбился насмерть"
В июле 1930 года было подписано постановление правительства о наследии Маяковского. Наследниками признавалась семья из четырех человек: Лиля Брик, мать и две сестры. Каждому из них полагалась одна четвертая часть пенсии в размере трехсот рублей ежемесячно.
Распределение же долей в наследстве на авторские права закрепляло за Лилей половину авторских прав, а за остальными наследниками вторую половину в равных долях.
Распределение же долей в наследстве на авторские права закрепляло за Лилей половину авторских прав, а за остальными наследниками вторую половину в равных долях.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
Лиля Юрьевна была замужем четыре раза: «Я всегда любила одного — одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Васю». Так она говорила.
После ухода Маяковского ей было 39 лет. С Виталием Марковичем Примаковым, крупным военачальником, кумиром каждого советского школьника, она была знакома еще с начала двадцатых годов, он бывал в их доме. После гибели Маяковского, он стал часто бывать у нее, и вышло так, что вскоре она связала с ним свою жизнь. «Мы прожили с ним шесть лет, он сразу вошёл в нашу писательскую среду… Примаков был красив — ясные серые глаза, белозубая улыбка. Он был высокообразован, хорошо владел английским, блестящий оратор, добр и отзывчив». Кроме того, Примаков был еще и талантливым литератором, написал несколько книг. Из хозяйки литературного салона Лиля превратилась в жену и спутницу военного, переезжая вместе с ним из города в город и живя подчас в спартанских условиях. Из Свердловска она писала Брику: «Грею воду на примусе и моюсь в резиновом тазу».
С того момента, как в жизнь Лили вошел Примаков, все ее амурные истории прекратились. Ни одного романчика, ни одного любовного приключения у неё больше не будет. Иная среда – иные нравы…
В 1935 году Примаков был назначен командующим Ленинградским военным округом, а в 1936 арестован по подозрению в участии в заговоре, вместе с Тухачевским, Уборевичем, Якиром. В 1937 году они все были расстреляны. Лиля Юрьевна в страхе каждую ночь ждала ареста. Этого не случилось. А много позже, она прочитала у Роя Медведева: «Просматривая подготовленные Ежовым списки для ареста тех или иных деятелей партии или деятелей культуры, Сталин иногда вычеркивал те или иные фамилии... Так, из списка литераторов он вычеркнул Л. Брик. «Не будем трогать жену Маяковского», — сказал он при этом».
Со смертью Примакова все рухнуло — предстояло опять начать жизнь сначала. Почва ушла из-под ног. Она начала пить, хотя раньше к алкоголю была равнодушна. Она тонула, погибала и не на что было опереться.
Многие друзья и знакомые, окружавшие её раньше, попросту исчезли, боясь обвинений в дружбе с женой «врага народа». И тогда рядом с ней появился старый друг, Василий Катанян.
Они были знакомы давно, с 1923 года. А позже, в 1927, когда Катаняны перебрались из Тбилиси в Москву, они быстро вошли в круг Маяковского-Бриков и стали «младшими среди равных». Его жена Галина, журналист и редактор, много работала с Маяковским, сын Вася рос на глазах Лили. Позднее, уже после смерти Лили, он напишет о ней замечательную книгу, полную любви и восхищения.
Василий Катанян, поэт, журналист, литературовед, был моложе Лили на одиннадцать лет. Именно он встречал Бриков на вокзале, когда они спешили на похороны Маяковского. Через несколько месяцев Василий Катанян влюбится в Лилю и останется в её доме навсегда. А может быть, он был влюблен в неё давно и только сейчас выпал случай быть с ней, спасти её, стать для неё необходимым.
«Я не собиралась навсегда связывать свою жизнь с Васей, - заверяла Лиля своего пасынка уже в шестидесятые годы. - Пожили бы какое-то время, потом разошлись, и он вернулся бы к Гале».
Осип даже ездил уговаривать Галю: «У Лилички с Васей была дружба. Сейчас дружба стала теснее». Галина с этими доводами не согласилась. Больше они с Лилей не виделись, хотя изредка разговаривали по телефону.
Лиля Юрьевна и Василий Абгарович проживут вместе более сорока лет. Он переживет её на два года.
После ухода Маяковского ей было 39 лет. С Виталием Марковичем Примаковым, крупным военачальником, кумиром каждого советского школьника, она была знакома еще с начала двадцатых годов, он бывал в их доме. После гибели Маяковского, он стал часто бывать у нее, и вышло так, что вскоре она связала с ним свою жизнь. «Мы прожили с ним шесть лет, он сразу вошёл в нашу писательскую среду… Примаков был красив — ясные серые глаза, белозубая улыбка. Он был высокообразован, хорошо владел английским, блестящий оратор, добр и отзывчив». Кроме того, Примаков был еще и талантливым литератором, написал несколько книг. Из хозяйки литературного салона Лиля превратилась в жену и спутницу военного, переезжая вместе с ним из города в город и живя подчас в спартанских условиях. Из Свердловска она писала Брику: «Грею воду на примусе и моюсь в резиновом тазу».
С того момента, как в жизнь Лили вошел Примаков, все ее амурные истории прекратились. Ни одного романчика, ни одного любовного приключения у неё больше не будет. Иная среда – иные нравы…
В 1935 году Примаков был назначен командующим Ленинградским военным округом, а в 1936 арестован по подозрению в участии в заговоре, вместе с Тухачевским, Уборевичем, Якиром. В 1937 году они все были расстреляны. Лиля Юрьевна в страхе каждую ночь ждала ареста. Этого не случилось. А много позже, она прочитала у Роя Медведева: «Просматривая подготовленные Ежовым списки для ареста тех или иных деятелей партии или деятелей культуры, Сталин иногда вычеркивал те или иные фамилии... Так, из списка литераторов он вычеркнул Л. Брик. «Не будем трогать жену Маяковского», — сказал он при этом».
Со смертью Примакова все рухнуло — предстояло опять начать жизнь сначала. Почва ушла из-под ног. Она начала пить, хотя раньше к алкоголю была равнодушна. Она тонула, погибала и не на что было опереться.
Многие друзья и знакомые, окружавшие её раньше, попросту исчезли, боясь обвинений в дружбе с женой «врага народа». И тогда рядом с ней появился старый друг, Василий Катанян.
Они были знакомы давно, с 1923 года. А позже, в 1927, когда Катаняны перебрались из Тбилиси в Москву, они быстро вошли в круг Маяковского-Бриков и стали «младшими среди равных». Его жена Галина, журналист и редактор, много работала с Маяковским, сын Вася рос на глазах Лили. Позднее, уже после смерти Лили, он напишет о ней замечательную книгу, полную любви и восхищения.
Василий Катанян, поэт, журналист, литературовед, был моложе Лили на одиннадцать лет. Именно он встречал Бриков на вокзале, когда они спешили на похороны Маяковского. Через несколько месяцев Василий Катанян влюбится в Лилю и останется в её доме навсегда. А может быть, он был влюблен в неё давно и только сейчас выпал случай быть с ней, спасти её, стать для неё необходимым.
«Я не собиралась навсегда связывать свою жизнь с Васей, - заверяла Лиля своего пасынка уже в шестидесятые годы. - Пожили бы какое-то время, потом разошлись, и он вернулся бы к Гале».
Осип даже ездил уговаривать Галю: «У Лилички с Васей была дружба. Сейчас дружба стала теснее». Галина с этими доводами не согласилась. Больше они с Лилей не виделись, хотя изредка разговаривали по телефону.
Лиля Юрьевна и Василий Абгарович проживут вместе более сорока лет. Он переживет её на два года.
ПИСЬМО СТАЛИНУ
После смерти Маяковского практически перестали печатать. Сочинения выходили медленно и очень маленьким тиражом. Статей о Маяковском не печатали, чтение его стихов с эстрады не поощрялось.
В 1935 году ЛЮ, устав стучаться в непробиваемую бюрократическую стену и, не видя другого выхода, обратилась к Сталину.
«После смерти Маяковского, — писала Л. Ю. Брик, — все дела, связанные с изданием его стихов и увековечением его памяти, сосредоточились у меня...
Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы его стихи печатались, чтоб вещи сохранились и чтоб все растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен. А интерес к Маяковскому растет с каждым годом...
Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, и он еще никем не заменен, и как был, так и остался крупнейшим поэтом революции. Но далеко не все это понимают. Полное собрание сочинений вышло только наполовину, и то в количестве 10 000 экземпляров. Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно...
...Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде в площадь и улицу Маяковского, но и это не осуществлено. Это основное. Не говоря о ряде мелких фактов, как, например: по распоряжению Наркомпроса из учебников на 1935 год выкинули поэмы «Ленин» и «Хорошо!». О них и не упоминается.
Все это вместе взятое указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского — его агитационной роли, его революционной актуальности... Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованности и сопротивление — и после шести лет работы обращаюсь к Вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследие Маяковского. Л. Брик.»
Усилиями Примакова письмо дошло до Сталина.
Сталин прочел письмо и написал резолюцию прямо на письме: «Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву. ...сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится — я готов. Привет! И. Сталин».
Будущий нарком Внутренних дел Николай Ежов возглавлял тогда Комиссию Партийного контроля при ЦК ВКП(б). Не будь Лилиного письма и высочайшей резолюции, три женщины с фамилией Маяковские так и остались бы родственницами полузабытого поэта. Не было бы памятника на Триумфальной площади в Москве, а также в сотнях других городов Советского Союза; не было бы школ, парков, библиотек, улиц его имени; не издавались бы произведения Маяковского миллионными тиражами и, разумеется, не было бы гонораров за каждое издание. И вся история советской литературы была бы совершенно иной.
Так началось посмертное признание и настоящий бум Маяковского: его стали печатать, выходили собрания сочинений и отдельные книги, его стали изучать в школах.
В 1935 году ЛЮ, устав стучаться в непробиваемую бюрократическую стену и, не видя другого выхода, обратилась к Сталину.
«После смерти Маяковского, — писала Л. Ю. Брик, — все дела, связанные с изданием его стихов и увековечением его памяти, сосредоточились у меня...
Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы его стихи печатались, чтоб вещи сохранились и чтоб все растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен. А интерес к Маяковскому растет с каждым годом...
Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, и он еще никем не заменен, и как был, так и остался крупнейшим поэтом революции. Но далеко не все это понимают. Полное собрание сочинений вышло только наполовину, и то в количестве 10 000 экземпляров. Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно...
...Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде в площадь и улицу Маяковского, но и это не осуществлено. Это основное. Не говоря о ряде мелких фактов, как, например: по распоряжению Наркомпроса из учебников на 1935 год выкинули поэмы «Ленин» и «Хорошо!». О них и не упоминается.
Все это вместе взятое указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского — его агитационной роли, его революционной актуальности... Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованности и сопротивление — и после шести лет работы обращаюсь к Вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследие Маяковского. Л. Брик.»
Усилиями Примакова письмо дошло до Сталина.
Сталин прочел письмо и написал резолюцию прямо на письме: «Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву. ...сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится — я готов. Привет! И. Сталин».
Будущий нарком Внутренних дел Николай Ежов возглавлял тогда Комиссию Партийного контроля при ЦК ВКП(б). Не будь Лилиного письма и высочайшей резолюции, три женщины с фамилией Маяковские так и остались бы родственницами полузабытого поэта. Не было бы памятника на Триумфальной площади в Москве, а также в сотнях других городов Советского Союза; не было бы школ, парков, библиотек, улиц его имени; не издавались бы произведения Маяковского миллионными тиражами и, разумеется, не было бы гонораров за каждое издание. И вся история советской литературы была бы совершенно иной.
Так началось посмертное признание и настоящий бум Маяковского: его стали печатать, выходили собрания сочинений и отдельные книги, его стали изучать в школах.
ВОЙНА
С началом войны Брик и Катанян работали в «Окнах ТАСС» — по типу «Окон РОСТА». Лиля Юрьевна с бригадой тушила на крыше зажигательные бомбы, которые в народе называли «зажигалки». В конце июля Союз писателей дал им направление эвакуироваться в Молотов (ныне Пермь). В Москве оставалась мать Брика. Лиля ей писала: «Дорогая Полина Юрьевна, телеграмму вашу о том, что вы пока не едете, получили. Очень тяжело так мало знать друг о друге».
Всю жизнь Лиля Юрьевна помогала родителям всех своих родных. При жизни Маяковского каждое первое число напоминала ему, что надо дать деньги Александре Алексеевне, его маме. Регулярно (не прерываясь и в войну) посылала деньги своей маме, матери Брика и матери Василия Абгаровича. Даже в очень трудные времена она как-то выкручивалась, и родители получали материальную помощь.
Ее мать, Елена Юльевна, эвакуировалась в Армавир, к своей сестре, там заболела и умерла. Умерла она до прихода немцев, а ее сестру с мужем убили оккупанты.
Через год они вернулись на Арбат, в разоренную квартиру с выбитыми окнами. Жили бытом военной Москвы: отоваривали карточки, меняли вещи на продукты, возле железной буржуйки поставили письменный стол и работали все трое — это было единственное теплое место в комнате. Иногда сидели в пальто. На выделенном Союзу писателей огороде сажали картошку и петрушку. Но даже в самые тяжелые и голодные времена Лиля старалась, чтобы дом её был чистым и уютным, а стол – красиво сервированным. Это правило соблюдалось во все времена, даже тогда, когда на обед был суп из крапивы и пшенная каша. В этом доме всегда ждали гостей, и люди туда тянулись.
22 февраля 1945 года на лестнице дома в Спасопесковском переулке, возвращаясь домой после работы, внезапно скончался Осип. Квартира была на очень высоком пятом этаже, без лифта, Он рухнул на втором, и Лиле с Катаняном пришлось волочить его по ступеням на седьмой.
Потрясенная Лиля не ела и не спала несколько дней — только пила кофе и курила. Проститься с Осипом пришло огромное количество друзей.
Лиля долго не могла прийти в себя. Позже она говорила: «Когда умер Володя, когда умер Примаков, — это умерли они, а когда умер Ося — умерла я». И еще говорила, что любила Осипа с детства, что у неё нет ни одного отдельного от него воспоминания.
Осипа кремировали, также как и его друга Владимира Маяковского, а затем захоронили в стене Новодевичьего кладбища, недалеко от Чехова.
Осиротевшая Женя осталась возле Лили. Лиля долго помогала ей всем, чем могла.
Всю жизнь Лиля Юрьевна помогала родителям всех своих родных. При жизни Маяковского каждое первое число напоминала ему, что надо дать деньги Александре Алексеевне, его маме. Регулярно (не прерываясь и в войну) посылала деньги своей маме, матери Брика и матери Василия Абгаровича. Даже в очень трудные времена она как-то выкручивалась, и родители получали материальную помощь.
Ее мать, Елена Юльевна, эвакуировалась в Армавир, к своей сестре, там заболела и умерла. Умерла она до прихода немцев, а ее сестру с мужем убили оккупанты.
Через год они вернулись на Арбат, в разоренную квартиру с выбитыми окнами. Жили бытом военной Москвы: отоваривали карточки, меняли вещи на продукты, возле железной буржуйки поставили письменный стол и работали все трое — это было единственное теплое место в комнате. Иногда сидели в пальто. На выделенном Союзу писателей огороде сажали картошку и петрушку. Но даже в самые тяжелые и голодные времена Лиля старалась, чтобы дом её был чистым и уютным, а стол – красиво сервированным. Это правило соблюдалось во все времена, даже тогда, когда на обед был суп из крапивы и пшенная каша. В этом доме всегда ждали гостей, и люди туда тянулись.
22 февраля 1945 года на лестнице дома в Спасопесковском переулке, возвращаясь домой после работы, внезапно скончался Осип. Квартира была на очень высоком пятом этаже, без лифта, Он рухнул на втором, и Лиле с Катаняном пришлось волочить его по ступеням на седьмой.
Потрясенная Лиля не ела и не спала несколько дней — только пила кофе и курила. Проститься с Осипом пришло огромное количество друзей.
Лиля долго не могла прийти в себя. Позже она говорила: «Когда умер Володя, когда умер Примаков, — это умерли они, а когда умер Ося — умерла я». И еще говорила, что любила Осипа с детства, что у неё нет ни одного отдельного от него воспоминания.
Осипа кремировали, также как и его друга Владимира Маяковского, а затем захоронили в стене Новодевичьего кладбища, недалеко от Чехова.
Осиротевшая Женя осталась возле Лили. Лиля долго помогала ей всем, чем могла.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТ
Все эти годы Лиля получала половину гонорара за издания произведений Маяковского, а издавали его много и платили щедро. Более того, в 1946 году Сталин по ходатайству Союза писателей продлил срок действия авторского права на произведения Маяковского, не указав даже, сколь надолго: получалось — навсегда.
Хрущев изменил ситуацию. По какому-то поводу ему представили на стол справку о гонорарах, получаемых наследниками «классиков» за все истекшие годы, и Хрущев сказал: «Не слишком ли жирно?»
И сразу же после этих слов источник существования для Лили исчез, и она практически осталась без средств. Но и к этому ей было не привыкать.
Она отнеслась к этому даже с юмором: «Первую часть жизни покупаем, вторую — продаём».
Пошли в продажу какие-то вещи, скромнее стала повседневная жизнь. Пришлось расстаться с Бехштейновским роялем, напоминанием о подарке родителей Осипа на свадьбу.
Но все такими же остались вечера, на которых за прекрасным столом сидели дорогие гости, всё также щедро дарила она ценные подарки особо любимым друзьям. Она могла подарить со стены рисунок кого-то из великих, или кольцо с пальца, или бриллиантовые серьги. В любых условиях Лиля оставалась самою собой.
Хрущев изменил ситуацию. По какому-то поводу ему представили на стол справку о гонорарах, получаемых наследниками «классиков» за все истекшие годы, и Хрущев сказал: «Не слишком ли жирно?»
И сразу же после этих слов источник существования для Лили исчез, и она практически осталась без средств. Но и к этому ей было не привыкать.
Она отнеслась к этому даже с юмором: «Первую часть жизни покупаем, вторую — продаём».
Пошли в продажу какие-то вещи, скромнее стала повседневная жизнь. Пришлось расстаться с Бехштейновским роялем, напоминанием о подарке родителей Осипа на свадьбу.
Но все такими же остались вечера, на которых за прекрасным столом сидели дорогие гости, всё также щедро дарила она ценные подарки особо любимым друзьям. Она могла подарить со стены рисунок кого-то из великих, или кольцо с пальца, или бриллиантовые серьги. В любых условиях Лиля оставалась самою собой.
АНТИБРИКОВСКАЯ КАМПАНИЯ
При этом кампания против Лили Брик, начавшаяся с конца 30-х, набирала обороты. Задачей её было вычеркнуть имя Бриков из наследия Маяковского. Если раньше использовались лишь злобные сплетни, то теперь в ход пошла тяжелая артиллерия. По-настоящему разогреть «антибриковскую» компанию удалось только после смерти Сталина, когда перестала действовать его резолюция на Лилином письме. Возглавила кампанию сестра поэта, Людмила Маяковская.
Борясь за «чистоту» «лучшего и талантливейшего поэта эпохи», партийная инквизиция готова была огнём и мечом уничтожить всё, что не соответствовало каноническому образу. Была запрещена к публикации переписка Маяковского с Бриками. Чувство Маяковского к Лиле было объявлено ошибкой, а его друзья и соратники отменены. Цензор собрания сочинений предлагал даже удалить сведения о самоубийстве.
Газеты и журналы соревновались между собой, кто напишет более хлесткое разоблачение не только Бриков, а и всех «примазавшихся». Особенно усердствовал журнал «Огонек», впрочем, и другие не отставали.
Лиля в ту пору говорила: «Конечно, Володе хорошо было бы жениться на нашей домработнице Аннушке, подобно тому, как вся Россия хотела, чтобы Пушкин женился на Арине Родионовне. Тогда меня, думаю, оставили бы в покое».
Людмила Владимировна бесконечно писала письма Суслову и самому Брежневу, требуя закрытия музея на Гендриковом: «Здесь будет паломничество для охотников до пикантных деталей обывателя».
Людмила Владимировна победила.
В результате специальным постановлением ЦК КПСС под грифом «совершенно секретно» было приказано музей в Гендриковом закрыть. По неизвестным нам причинам был закрыт дом-музей на Лубянке, якобы для ремонта. Он фактически разрушен. Комната, где прозвучал последний выстрел – заперта. И это удивительно и печально.
Маяковского изображали окруженным злодеями и прихлебателями, которые только и думали, как погубить его. Уже придумывался некий сионистский заговор, во главе которого стояла дьявольская пара Бриков. Из статей о Маяковском теперь вымарывались их общие фотографии. Часто Лилю из снимков вырезали, иногда по недосмотру оставляя то руку, то каблук, то кусочек юбки.
Были попытки подыскать Маяковскому другую музу. Пытались поставить на это место «хорошую русскую девушку» Татьяну Яковлеву, от чего живущая много лет в Америке Татьяна с негодованием отказалась.
Тогда отыскали другую бывшую возлюбленную – Евгению Ланг, жившую в Германии. Людмила долго вела с ней переговоры и сумела добиться разрешения для Евгении вернуться из эмиграции и даже предоставления ей квартиры в Москве. Евгения квартиру получила, но мемуары с подтасованными воспоминаниями писать отказалась.
Людмила Владимировна посвятит остаток своей длинной жизни а прожила она до глубокой старости и умерла в 1972 году, когда ей было 88 лет, тому, чтобы оттеснить имя Лили Брик от Маяковского, дискредитировать её, представить злым гением и даже объявить виновницей его смерти. Сама поэзия интересовала её и её соратников по борьбе с Бриками очень мало.
Многие уважаемые и известные люди: среди них Борис Слуцкий, Константин Симонов, Семен Кирсанов, Зиновий Паперный пытались защищать Лилю Брик. Но – тщетно. Их голос не был слышен в шумной волне «разоблачений».
Борясь за «чистоту» «лучшего и талантливейшего поэта эпохи», партийная инквизиция готова была огнём и мечом уничтожить всё, что не соответствовало каноническому образу. Была запрещена к публикации переписка Маяковского с Бриками. Чувство Маяковского к Лиле было объявлено ошибкой, а его друзья и соратники отменены. Цензор собрания сочинений предлагал даже удалить сведения о самоубийстве.
Газеты и журналы соревновались между собой, кто напишет более хлесткое разоблачение не только Бриков, а и всех «примазавшихся». Особенно усердствовал журнал «Огонек», впрочем, и другие не отставали.
Лиля в ту пору говорила: «Конечно, Володе хорошо было бы жениться на нашей домработнице Аннушке, подобно тому, как вся Россия хотела, чтобы Пушкин женился на Арине Родионовне. Тогда меня, думаю, оставили бы в покое».
Людмила Владимировна бесконечно писала письма Суслову и самому Брежневу, требуя закрытия музея на Гендриковом: «Здесь будет паломничество для охотников до пикантных деталей обывателя».
Людмила Владимировна победила.
В результате специальным постановлением ЦК КПСС под грифом «совершенно секретно» было приказано музей в Гендриковом закрыть. По неизвестным нам причинам был закрыт дом-музей на Лубянке, якобы для ремонта. Он фактически разрушен. Комната, где прозвучал последний выстрел – заперта. И это удивительно и печально.
Маяковского изображали окруженным злодеями и прихлебателями, которые только и думали, как погубить его. Уже придумывался некий сионистский заговор, во главе которого стояла дьявольская пара Бриков. Из статей о Маяковском теперь вымарывались их общие фотографии. Часто Лилю из снимков вырезали, иногда по недосмотру оставляя то руку, то каблук, то кусочек юбки.
Были попытки подыскать Маяковскому другую музу. Пытались поставить на это место «хорошую русскую девушку» Татьяну Яковлеву, от чего живущая много лет в Америке Татьяна с негодованием отказалась.
Тогда отыскали другую бывшую возлюбленную – Евгению Ланг, жившую в Германии. Людмила долго вела с ней переговоры и сумела добиться разрешения для Евгении вернуться из эмиграции и даже предоставления ей квартиры в Москве. Евгения квартиру получила, но мемуары с подтасованными воспоминаниями писать отказалась.
Людмила Владимировна посвятит остаток своей длинной жизни а прожила она до глубокой старости и умерла в 1972 году, когда ей было 88 лет, тому, чтобы оттеснить имя Лили Брик от Маяковского, дискредитировать её, представить злым гением и даже объявить виновницей его смерти. Сама поэзия интересовала её и её соратников по борьбе с Бриками очень мало.
Многие уважаемые и известные люди: среди них Борис Слуцкий, Константин Симонов, Семен Кирсанов, Зиновий Паперный пытались защищать Лилю Брик. Но – тщетно. Их голос не был слышен в шумной волне «разоблачений».
ПОМОЩЬ ДРУЗЬЯМ
Но ничто не могло помешать ей оставаться самой собой. Все годы она ощущала поддержку друзей и близких, их помощь и сочувствие. И сама помогла многим.
Лиля забрала к себе Луэллу Краснощекову после ареста и расстрела её отца. Софья Шемардина, юношеская любовь Маяковского, вышла из лагерей после 17-летней отсидки в лагерях и пришла к Лиле. Больше ей идти было некуда. Лиля отогревала её, лечила, кормила – сделала всё, чтобы вернуть Софью к жизни. Ей удалось устроить её в Дом старых большевиков в Переделкино, где Шемардина прожила еще немало лет.
Она любила помогать. Современники вспоминают, что она бесконечно устраивала кого-то на лечение за границей, хлопотала о чьих-то зарубежных гастролях, договаривалась о переводах чьих-то стихов и прозы. Вспоминают посылки из Парижа, полные лекарств для друзей.
После слов Пастернака о том, что Маяковского насаждают, как картошку, она с ним не общалась. Но когда с ним случилась беда после присуждения ему Нобелевской премии за «Доктор Живаго», когда на него обрушилась всей своей тяжестью государнственная идеологическая машина и очень многие от него отвернулись, она опять стала с ним общаться, разговаривать подолгу и попыталась через Арагона хотя бы смягчить удар.
Лиля забрала к себе Луэллу Краснощекову после ареста и расстрела её отца. Софья Шемардина, юношеская любовь Маяковского, вышла из лагерей после 17-летней отсидки в лагерях и пришла к Лиле. Больше ей идти было некуда. Лиля отогревала её, лечила, кормила – сделала всё, чтобы вернуть Софью к жизни. Ей удалось устроить её в Дом старых большевиков в Переделкино, где Шемардина прожила еще немало лет.
Она любила помогать. Современники вспоминают, что она бесконечно устраивала кого-то на лечение за границей, хлопотала о чьих-то зарубежных гастролях, договаривалась о переводах чьих-то стихов и прозы. Вспоминают посылки из Парижа, полные лекарств для друзей.
После слов Пастернака о том, что Маяковского насаждают, как картошку, она с ним не общалась. Но когда с ним случилась беда после присуждения ему Нобелевской премии за «Доктор Живаго», когда на него обрушилась всей своей тяжестью государнственная идеологическая машина и очень многие от него отвернулись, она опять стала с ним общаться, разговаривать подолгу и попыталась через Арагона хотя бы смягчить удар.
Луэлла Краснощекова
Софья Шемардина
Борис Пастернак
"У МЕНЯ В МОСКВЕ ВСЁ"
Луи Арагон и Эльза Триоле
В июне 1970-го в квартире у Лили раздался международный звонок. Это было частым событием, но Лиля отчего-то разволновалась. Трубку взял Василий Абгарович. Не желая волновать её, он отвечал односложно. Когда он положил трубку, Лиля сказала: «Умерла Эльза».
Эльзе Триоле было 74 года. Она умерла внезапно, от сердечной недостаточности. Еще неделю назад они с Лилей обсуждали их очередную поездку в Париж.
После похорон Арагон предложил Лиле перебраться в Париж насовсем. Когда-то, еще вместе с Эльзой они перестроили свою большую квартиру в центре Парижа таким образом, чтобы получилась отдельная небольшая квартирка для Лили и Катаняна, когда они приезжают погостить. Арагон говорил: «Переезжай, тебя все здесь любят. Будешь жить спокойно. О деньгах не думайте. У меня хватит на всех». Лиля отказалась: «У меня в Москве всё, там мой язык, там мои несчастья. Там у меня Брик и Маяковский».
Эльзе Триоле было 74 года. Она умерла внезапно, от сердечной недостаточности. Еще неделю назад они с Лилей обсуждали их очередную поездку в Париж.
После похорон Арагон предложил Лиле перебраться в Париж насовсем. Когда-то, еще вместе с Эльзой они перестроили свою большую квартиру в центре Парижа таким образом, чтобы получилась отдельная небольшая квартирка для Лили и Катаняна, когда они приезжают погостить. Арагон говорил: «Переезжай, тебя все здесь любят. Будешь жить спокойно. О деньгах не думайте. У меня хватит на всех». Лиля отказалась: «У меня в Москве всё, там мой язык, там мои несчастья. Там у меня Брик и Маяковский».


Узнав, что Алла Демидова планирует впервые прочитать со сцены неизданный ахматовский «Реквием», Брик отдала актрисе своё платье. Много лет Демидова читала свою программу именно в этом платье, а во время её гастролей в Париже в программке не забыли указать историю удивительного платья.
По словам Сен-Лорана, он знал трёх женщин, способных быть элегантными вне моды, — это Катрин Денёв, Марлен Дитрих и Лиля Брик. Лоран и Лиля подружились. Они подолгу разговаривали обо всём, вместе ходили в музеи, где Лиле приносили стул, потому что стоять подолгу она уже не могла.
Когда Лили не станет, он, будучи в Москве, навестит её квартиру, немного побудет в её комнате один и оставит цветы в кресле, где она любила сидеть.
По словам Сен-Лорана, он знал трёх женщин, способных быть элегантными вне моды, — это Катрин Денёв, Марлен Дитрих и Лиля Брик. Лоран и Лиля подружились. Они подолгу разговаривали обо всём, вместе ходили в музеи, где Лиле приносили стул, потому что стоять подолгу она уже не могла.
Когда Лили не станет, он, будучи в Москве, навестит её квартиру, немного побудет в её комнате один и оставит цветы в кресле, где она любила сидеть.
Ив Сен-Лоран
СЕН-ЛОРАН
Когда Лиле было уже 84, жизнь приготовила для неё новый сюрприз.
Дело было зимой 75 года. Она шла по аэропорту Шереметьево, торопилась на самолет. Навстречу ей шел всемирно известный кутюрье Ив Сен-Лоран со своим директором Пьером Берже.
Он увидел немолодую даму в зеленой шубе от Диора (подарок подруги Полины Ротшильд), с рыжей косой. Потом он говорил, что она была единственная, на ком он захотел остановить свой взгляд в этой серой толпе. Берже уже видел Лилю у Эльзы и познакомил с ней Сен-Лорана.
В самолете Сен-Лоран прислал Лиле и Катаняну два бокала шампанского и попросил дать ему адрес, по которому их можно будет найти. А в Париже Лоран устроил Лиле настоящий праздник с приемами в ресторане «Максим», цветами и подарками.
Через год, на Лилино 85-летие, Лоран подарит Лиле специально для неё сделанное вечернее платье. Платье это можно было надеть только один раз, а потом сдать в музей Лорана. Но Лиля, как всегда, поступила по-своему.
Дело было зимой 75 года. Она шла по аэропорту Шереметьево, торопилась на самолет. Навстречу ей шел всемирно известный кутюрье Ив Сен-Лоран со своим директором Пьером Берже.
Он увидел немолодую даму в зеленой шубе от Диора (подарок подруги Полины Ротшильд), с рыжей косой. Потом он говорил, что она была единственная, на ком он захотел остановить свой взгляд в этой серой толпе. Берже уже видел Лилю у Эльзы и познакомил с ней Сен-Лорана.
В самолете Сен-Лоран прислал Лиле и Катаняну два бокала шампанского и попросил дать ему адрес, по которому их можно будет найти. А в Париже Лоран устроил Лиле настоящий праздник с приемами в ресторане «Максим», цветами и подарками.
Через год, на Лилино 85-летие, Лоран подарит Лиле специально для неё сделанное вечернее платье. Платье это можно было надеть только один раз, а потом сдать в музей Лорана. Но Лиля, как всегда, поступила по-своему.
К смерти она относилась философски: «Ничего не поделаешь — все умирают, и мы умрем». И хотя как-то сказала: «Не важно, как умереть — важно, как жить», — свою смерть заранее предусмотрела: «Я умереть не боюсь, у меня кое-что припасено. Я боюсь только, вдруг случится инсульт и я не сумею воспользоваться этим «кое-чем». Тогда об этих словах все забыли. Но не она.
В своем дневнике через два месяца после смерти Маяковского она сделала надпись: «Приснился сон — я сержусь на Володю за то, что он застрелился, а он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит: «Все равно ты то же самое сделаешь». Сон оказался вещим.
И вот, когда ей было уже восемьдесят шесть лет, рано утром она упала у себя в комнате, сломала шейку бедра и оказалась обреченной на неподвижность. Её перевезли на дачу в Переделкино. Там было просторнее, свежий воздух, густо цвела сирень. Уход за ней был прекрасный, но она не чувствовала улучшения и становилась все грустнее и грустнее. «Я живу только потому, что мучаюсь», — сказала она. Что можно было возразить?
...Был последний месяц лета 1978 года, когда неизменно желтело и краснело кленовое дерево — оно было особенно красиво за забором у Бориса Пастернака. Днем бывало спокойно, люди не приезжали без ее разрешения. Тихо-тихо. Больная, она подремывала, листала книги, вспоминала... Память, как длинная вечерняя тень, не покидала ее. «Знаешь, я теперь время от времени влюбляюсь в разные стихи Володи. Иногда они мне снятся. Иногда снятся чужие, старинные. Но Маяковский — каждый день. Она была в печали, грустна и молчалива. С каждым днем все больше слабела, была подавлена зависимостью от окружающих — словом, понимала необратимость болезни. Как-то вздохнула стихами Бальмонта: «Уходящие тени, уходящие тени уходящего дня...» И вечером вдруг сказала: «Подумай только, сегодня впервые в жизни я не взглянула на себя в зеркало». И перед сном сказала каждому «спасибо». Хотя, казалось бы, за что? Но потом мы поняли, что так она простилась с каждым, кто был с ней рядом все эти дни...
4 августа 1978 года, когда муж ее уехал в город по делам, Лиля Юрьевна попросила работницу принести ей воды. Та подала стакан и ушла на кухню. И тогда Лиля Юрьевна достала из-под подушки сумку, где она хранила это самое «кое-что»... В простой школьной тетрадке, которая лежала у нее на кровати, она написала слабеющей рукой: «В моей смерти прошу никого не винить. Васик! Я боготворю тебя. Прости меня. И друзья, простите. Лиля». И, приняв таблетки, приписала: «Нембутал немб...» Закончить слово уже не хватило жизненных сил.
Седьмого августа в Переделкино состоялось прощание.
Хоронили Лилю в белом холщовом платье, подаренном Параджановым. И надушили любимыми духами «Опиум», которые год назад подарил ей Сен-Лоран, их создатель. Параджанов положил ей на платье ветку поспевшей уже рябины. Панихида длилась несколько часов. Многие хотели сказать ей последнее «прости». И в последнем слове друзья старались защитить её от обидчиков, преследовавших её большую часть жизни.
«Никому не удастся, — сказал Константин Симонов, — оторвать от Маяковского Лилю Брик. Попытки эти смешны и бесплодны».
Виктор Шкловский сказал: «Они пытались вырвать Лилю из сердца поэта, а самого его разрезать на цитаты».
У нас некрологов не было, а за рубежом — во Франции, Германии, Италии, США, Швеции, Канаде, Чехословакии, Польше, Японии, Индии...
В одном из них было написано: «Ни одна женщина в истории русской культуры не имела такого значения для творчества большого поэта, как Лиля Брик для поэзии Маяковского».
На уютной опушке недалеко от Звенигорода возле сосновой рощи поставлена последняя точка в её жизни. Поклонники привезли огромный валун, на котором выбиты всё те же три буквы – ЛЮБ...
В своем дневнике через два месяца после смерти Маяковского она сделала надпись: «Приснился сон — я сержусь на Володю за то, что он застрелился, а он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит: «Все равно ты то же самое сделаешь». Сон оказался вещим.
И вот, когда ей было уже восемьдесят шесть лет, рано утром она упала у себя в комнате, сломала шейку бедра и оказалась обреченной на неподвижность. Её перевезли на дачу в Переделкино. Там было просторнее, свежий воздух, густо цвела сирень. Уход за ней был прекрасный, но она не чувствовала улучшения и становилась все грустнее и грустнее. «Я живу только потому, что мучаюсь», — сказала она. Что можно было возразить?
...Был последний месяц лета 1978 года, когда неизменно желтело и краснело кленовое дерево — оно было особенно красиво за забором у Бориса Пастернака. Днем бывало спокойно, люди не приезжали без ее разрешения. Тихо-тихо. Больная, она подремывала, листала книги, вспоминала... Память, как длинная вечерняя тень, не покидала ее. «Знаешь, я теперь время от времени влюбляюсь в разные стихи Володи. Иногда они мне снятся. Иногда снятся чужие, старинные. Но Маяковский — каждый день. Она была в печали, грустна и молчалива. С каждым днем все больше слабела, была подавлена зависимостью от окружающих — словом, понимала необратимость болезни. Как-то вздохнула стихами Бальмонта: «Уходящие тени, уходящие тени уходящего дня...» И вечером вдруг сказала: «Подумай только, сегодня впервые в жизни я не взглянула на себя в зеркало». И перед сном сказала каждому «спасибо». Хотя, казалось бы, за что? Но потом мы поняли, что так она простилась с каждым, кто был с ней рядом все эти дни...
4 августа 1978 года, когда муж ее уехал в город по делам, Лиля Юрьевна попросила работницу принести ей воды. Та подала стакан и ушла на кухню. И тогда Лиля Юрьевна достала из-под подушки сумку, где она хранила это самое «кое-что»... В простой школьной тетрадке, которая лежала у нее на кровати, она написала слабеющей рукой: «В моей смерти прошу никого не винить. Васик! Я боготворю тебя. Прости меня. И друзья, простите. Лиля». И, приняв таблетки, приписала: «Нембутал немб...» Закончить слово уже не хватило жизненных сил.
Седьмого августа в Переделкино состоялось прощание.
Хоронили Лилю в белом холщовом платье, подаренном Параджановым. И надушили любимыми духами «Опиум», которые год назад подарил ей Сен-Лоран, их создатель. Параджанов положил ей на платье ветку поспевшей уже рябины. Панихида длилась несколько часов. Многие хотели сказать ей последнее «прости». И в последнем слове друзья старались защитить её от обидчиков, преследовавших её большую часть жизни.
«Никому не удастся, — сказал Константин Симонов, — оторвать от Маяковского Лилю Брик. Попытки эти смешны и бесплодны».
Виктор Шкловский сказал: «Они пытались вырвать Лилю из сердца поэта, а самого его разрезать на цитаты».
У нас некрологов не было, а за рубежом — во Франции, Германии, Италии, США, Швеции, Канаде, Чехословакии, Польше, Японии, Индии...
В одном из них было написано: «Ни одна женщина в истории русской культуры не имела такого значения для творчества большого поэта, как Лиля Брик для поэзии Маяковского».
На уютной опушке недалеко от Звенигорода возле сосновой рощи поставлена последняя точка в её жизни. Поклонники привезли огромный валун, на котором выбиты всё те же три буквы – ЛЮБ...
СМЕРТЬ ЛИЛИ


ПОСЛЕСЛОВИЕ
Один из журналистов так сказал о Лиле Брик: «Если женщина и при жизни, и после смерти вызывает такую любовь, зависть и ненависть, значит, она прожила свою жизнь не зря».
Кем была Лиля? Она была музой величайшего поэта, но и не только. Как бы между делом она участвовала в литературной жизни в период авангарда и её участие было заметным. Она вместе с Маяковским и Бриком создавала ЛЕФ, Она редактировала и правила рукописи Маяковского, она участвовала в работе РОСТА, а её фотография работы Родченко стала самым знаменитым символом того периода. Она снялась в кино «Закованная фильмой» вместе с Маяковским, созданному по его сценарию специально для неё. Фильм пропал во время пожара на киностудии, но Лиле удалось сохранить фрагменты, и в 60-х она передала их итальянскому поэту Джанни Тотти, который сумел создать на их основе крошечный, но законченный фильм.
В 20-х она по поручению Луначарского пыталась внедрить в советскую промышленность европейскую женскую моду, вывозила во Францию коллекцию знаменитой Надежды Ламановой. Это не кончилось ничем. Для советских женщин продолжали шить топорные платья. Но попытка была.
В 1929 году она вместе с Виталием Жемчужным сняла документально-игровой фильм «Стеклянный глаз», снятый по её сценарию. Фильм широко шел в кинотеатрах и получил хорошие отзывы.
В тяжелые 30-е годы она вернулась к занятиям скульптурой, которой училась в молодости, и создала скульптурный портрет Маяковского, хранившийся в музее.
А остальное время своей жизни она занималась тем, что не давала памяти о Маяковском умереть. Не все её дела увенчались успехом. Но в главном деле своей жизни она, безусловно, преуспела.
И ещё одно, может быть, самое главное. Она была стопроцентной женщиной. Редкой, высочайшей пробы. С первой до последней своей минуты. В этом и состоит её загадка, здесь же кроется и разгадка. Её шутливые инструкции о том, как покорить сердце мужчины - «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешить ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье» - думается, пытались повторить многие. Но далеко не многим удается прожить так, чтобы жизнь эта вызывала жгучий интерес и современников, и следующих поколений.
Она сама выбирала, чьей музой быть, кого любить, с кем дружить, как жить и как умирать. Всё сама, всегда сама. С начала и до конца.
Кем была Лиля? Она была музой величайшего поэта, но и не только. Как бы между делом она участвовала в литературной жизни в период авангарда и её участие было заметным. Она вместе с Маяковским и Бриком создавала ЛЕФ, Она редактировала и правила рукописи Маяковского, она участвовала в работе РОСТА, а её фотография работы Родченко стала самым знаменитым символом того периода. Она снялась в кино «Закованная фильмой» вместе с Маяковским, созданному по его сценарию специально для неё. Фильм пропал во время пожара на киностудии, но Лиле удалось сохранить фрагменты, и в 60-х она передала их итальянскому поэту Джанни Тотти, который сумел создать на их основе крошечный, но законченный фильм.
В 20-х она по поручению Луначарского пыталась внедрить в советскую промышленность европейскую женскую моду, вывозила во Францию коллекцию знаменитой Надежды Ламановой. Это не кончилось ничем. Для советских женщин продолжали шить топорные платья. Но попытка была.
В 1929 году она вместе с Виталием Жемчужным сняла документально-игровой фильм «Стеклянный глаз», снятый по её сценарию. Фильм широко шел в кинотеатрах и получил хорошие отзывы.
В тяжелые 30-е годы она вернулась к занятиям скульптурой, которой училась в молодости, и создала скульптурный портрет Маяковского, хранившийся в музее.
А остальное время своей жизни она занималась тем, что не давала памяти о Маяковском умереть. Не все её дела увенчались успехом. Но в главном деле своей жизни она, безусловно, преуспела.
И ещё одно, может быть, самое главное. Она была стопроцентной женщиной. Редкой, высочайшей пробы. С первой до последней своей минуты. В этом и состоит её загадка, здесь же кроется и разгадка. Её шутливые инструкции о том, как покорить сердце мужчины - «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешить ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье» - думается, пытались повторить многие. Но далеко не многим удается прожить так, чтобы жизнь эта вызывала жгучий интерес и современников, и следующих поколений.
Она сама выбирала, чьей музой быть, кого любить, с кем дружить, как жить и как умирать. Всё сама, всегда сама. С начала и до конца.
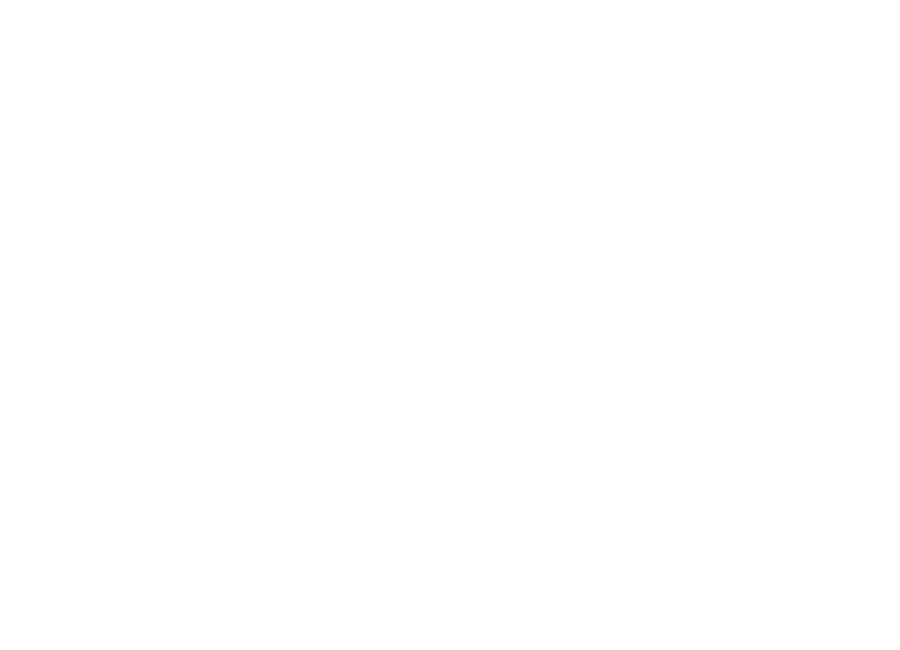
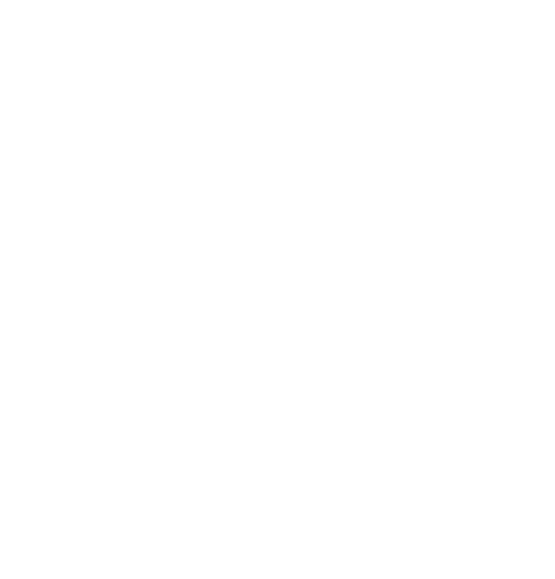
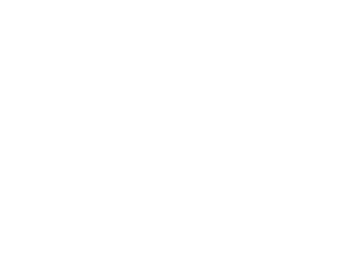
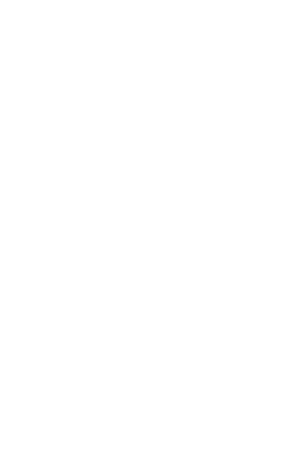
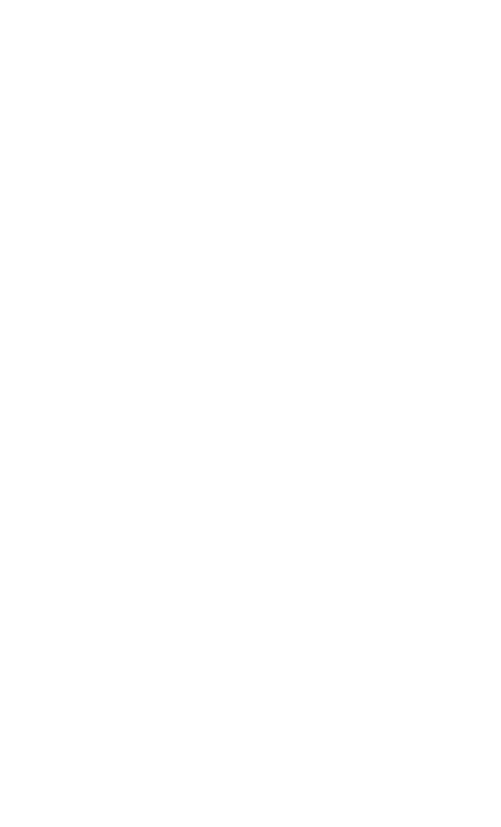
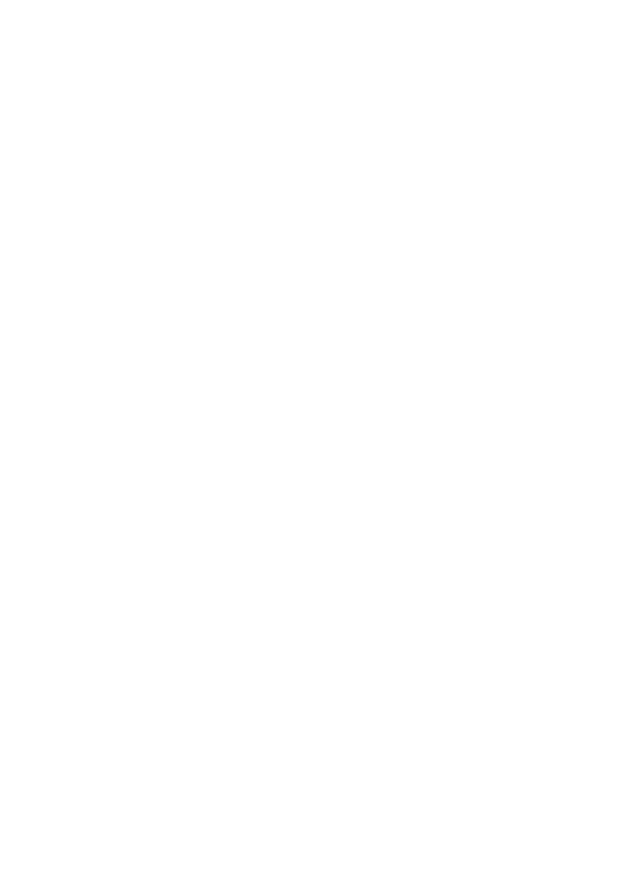
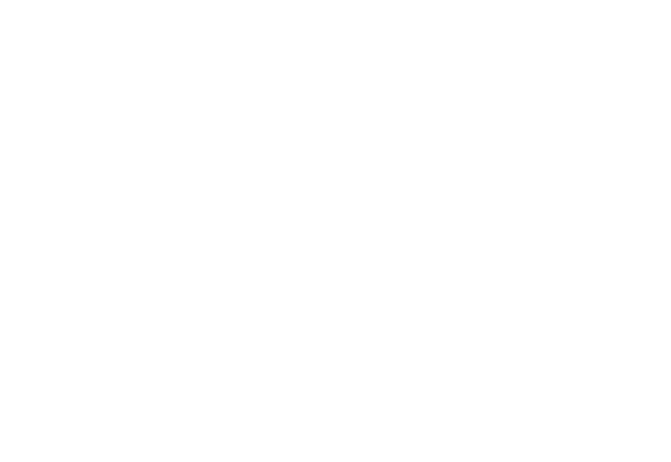
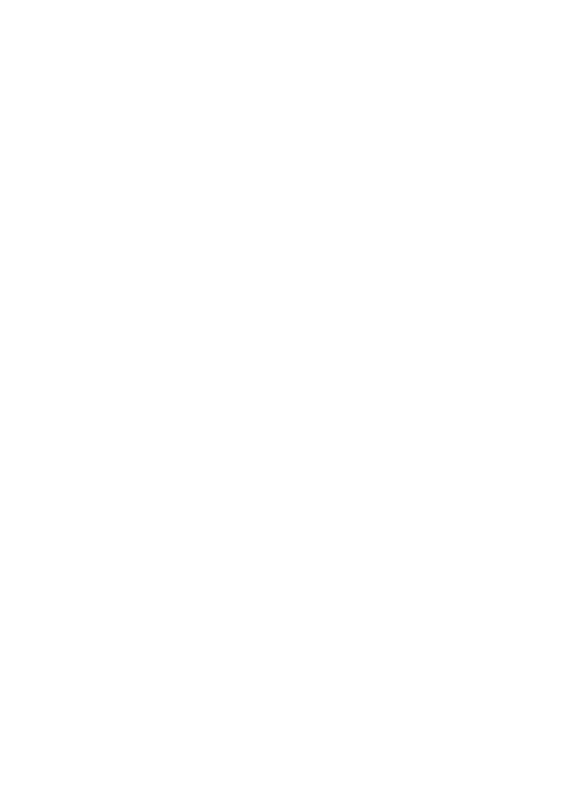
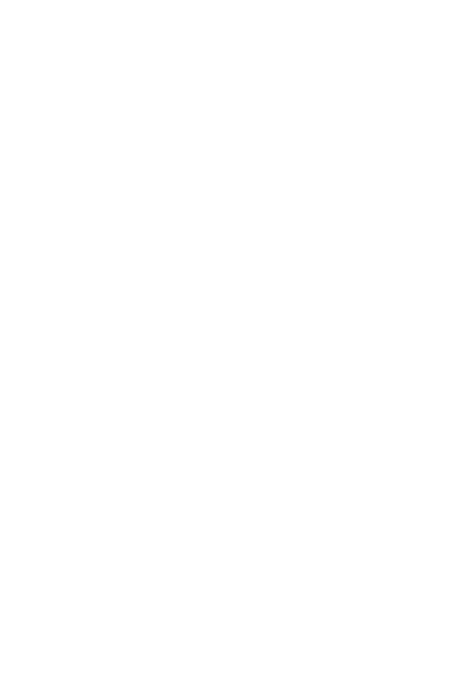
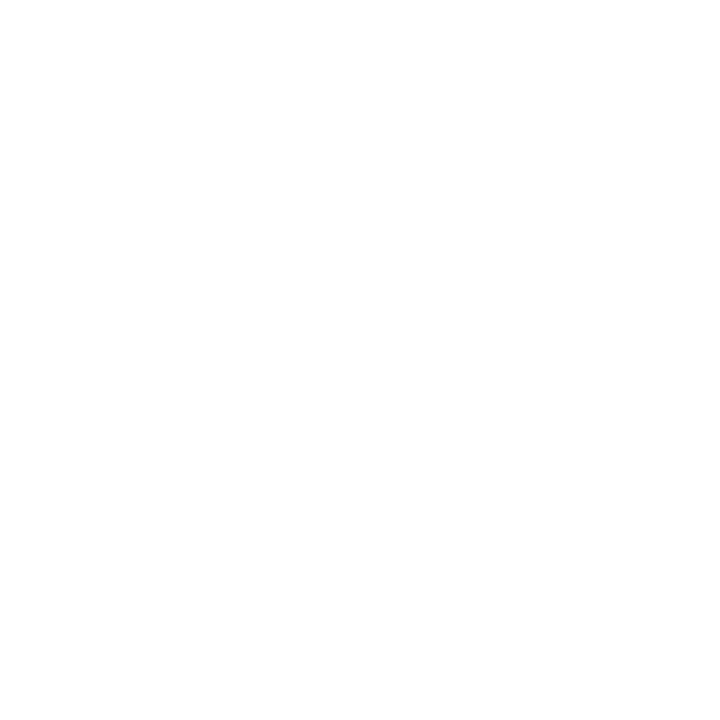
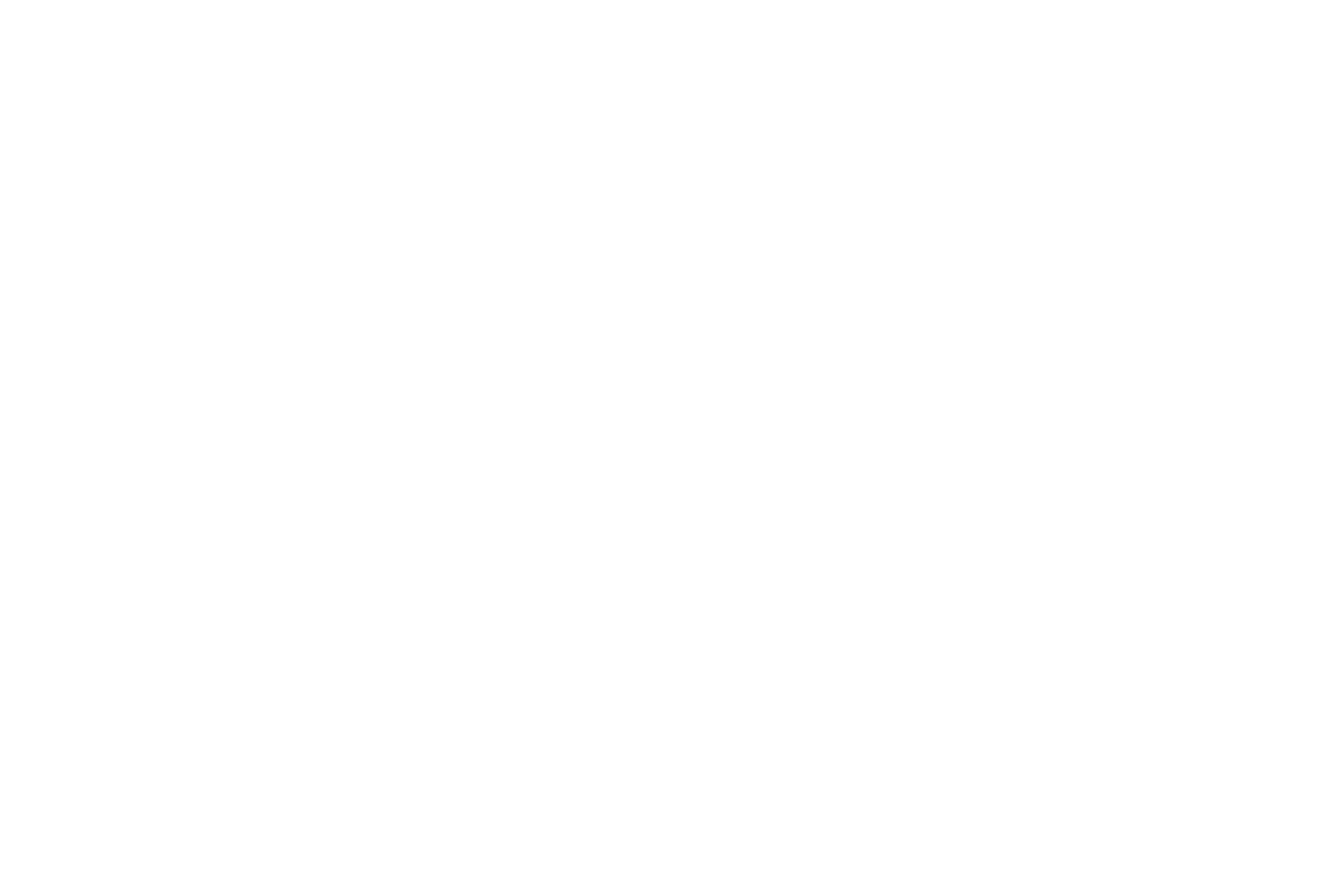
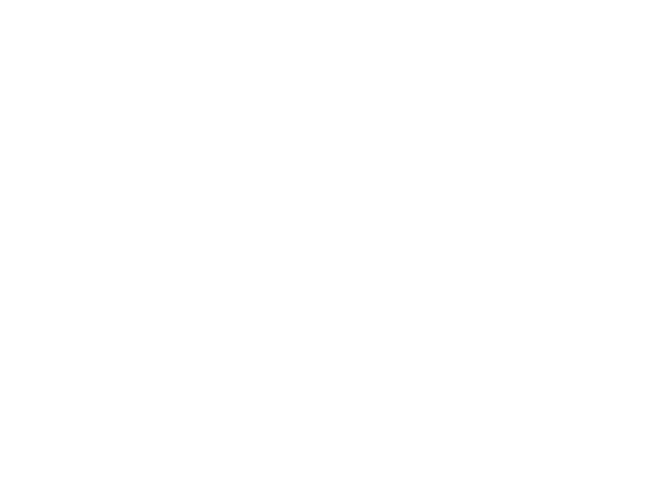
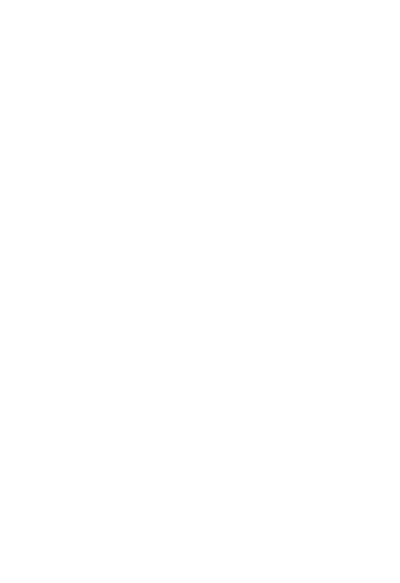
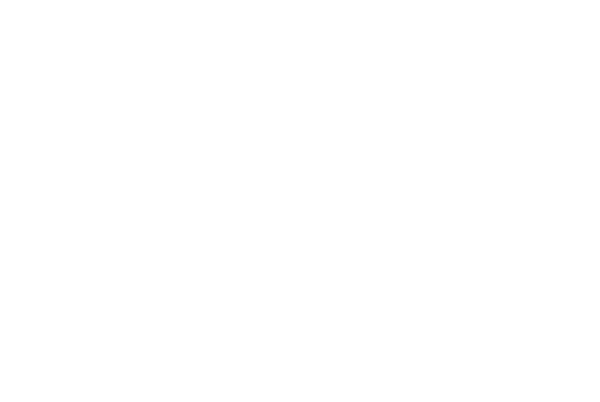
"Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг!"
В. Маяковский
При создании лонгрида использовались материалы статьи Е. Фруминой-Ситниковой "Лиля Брик. Удивительная судьба женщины-исключения", а также книги В. Катаняна "Лиля Брик. Жизнь". Фото и видео из общедоступных источников.


